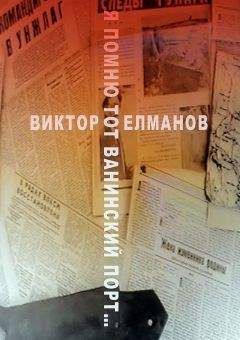Следствие
Сейчас, когда я изредка начинаю кому-то рассказывать о следствии, мне сразу задают вопрос: «Били?» Нет, меня не били. «Ну так а что тогда?» В этом тоже очень много нашего… Но меня не били, я был наивным мальчишкой — за что бить-то? Я мог сколько угодно спорить, говорить, что здесь написано так-то, а на самом деле было так-то, но мне отвечали: «Ты не понимаешь, просто одно из другого вытекает». Как у Пушкина, когда Лжедмитрия ловили на польской границе: «Не всяко слово в строку пишется». В общем, следствие шло гладко, следователь доброжелательно клепал свое дело.
По их мнению, мы собирались рыть подкоп из Ленинграда в Москву под Кремль, под Мавзолей. Ну как же, возмущался я, это же невозможно! «Почему невозможно, — доброжелательно отвечал следователь, — сейчас существуют специальные машины». Да, говорил я, но у нас же не было такой машины. «Но ты же понимаешь, что такая машина есть, — отвечал следователь, — а раз она есть — значит, ее можно приобрести». Ну, отвечал я, теоретически, конечно, можно. И вот так вырисовывалось дело. А подкоп мы рыли, естественно, чтобы взорвать товарища Сталина — или во время майских праздников, или во время ноябрьских, зависело от того, как бы мы успели дорыть. А оружие нам нужно было, чтобы стрелять по солидным автомобилям большого начальства здесь, в Ленинграде. Например, чтобы совершить террористическое нападение на маршала Говорова… И вот меня уговаривают, что это сделать легко, потому что известно же, где живет маршал — в таком-то доме на Петроградской. И мне приходится отвечать, что в принципе, по логике, да, возможно. Я не влезал ни в какие споры.
И вот так вот следствие шло своим чередом. Я не знал, о чем следователь разговаривал с четырьмя моими друзьями-огольцами, которых тоже забрали. Даже когда знакомишься со своим делом — ну кому охота читать все это, две толстенные папки, отношение было такое. И в какой-то момент следствие было закончено.
Я к тому моменту сменил множество камер. Сначала сидел в одиночках, и это было самое блаженное время. Существует очень много пугающих свидетельств того, что одиночки угнетают. Но мне по складу моего характера было комфортно одному — и в тюрьме, и на свободе, везде. Но в один прекрасный день, если эти дни вообще можно назвать прекрасными, меня забрали из камеры со всеми вещами, а раз с вещами, значит, из этой камеры забирают совсем. И ведут в другую. Заводят, я попадаю в какое-то полутемное пространство, ничего не видно, вижу лишь перед собой какой-то большой темный силуэт. А сзади за мной закрывается дверь. Но никакого испуга не было — я понимал, что это, видимо, тоже заключенный. И он говорит: «Многое пережили — и это переживем. Заходи, товарищ». Но заходить мне не нужно было, потому что меня уже втолкнули. И так я познакомился с очень хорошим человеком, фронтовиком, неглупым, еще относительно молодым, по фамилии Кучумов. Сейчас он, конечно, уже не жив. Вообще с возрастом приходит очень странное состояние: все время знаешь, что уже не жив, уже не жив, о ком ни подумаешь — уже не жив… Я уже не помню, за что сидел этот Кучумов, что ему «шили», — наверное, какая-нибудь измена родине, враг народа, любое дело можно было приклепать. Этот Кучумов много рассказывал о фронте. Он был разведчиком, но не шпионом, не Штирлицем, а армейским разведчиком, ходил языка брать. Лежали долгими ночными часами в снегу, не шевелясь… Потом его выдернули от меня, и я снова остался один. А уже после суда мы с ним встретились еще раз в общей камере… Сейчас я не скажу, что мне было скучно в одиночке, — мне и правда хорошо с самим собой. И всегда так было.
Помню, еще шло следствие. Я сидел в одиночке, и мне страшно хотелось курить, причем спички были, а курева не было. И мне пришло в голову надергать из матраса какой-то ваты или, не знаю, какой-то морской травы, завернуть все это в обрывок бумаги и поджечь. Жуткая вещь, дыхание перехватывало. Кажется, я сразу погасил, но чудовищный запах через вентиляцию проник в коридор. А в этот день дежурил маленький, толстенький, крепенький, немолодой забавный вертухай, которого все почему-то называли генералом. И вот я сижу в этом отвратительном дыму, и тут открывается кормушка — в дверях под глазками были еще специальные форточки, через которые передавали пищу, — и: «Сейчас же прекратите!» Требовательный, грозный охранник. Я отвечаю: «Все, уже погасил». Форточка закрывается, он уходит, я слышу по шагам. И тут важно отметить, что в коридорах иногда стелили очень мягкие ковры, и были такие вертухаи, которые старались ходить неслышно, буквально подкрадывались. Бродишь туда-сюда по камере и вдруг видишь, что глазок-то открыт и кто-то за тобой наблюдает. А были и другие, которые ходили совершенно спокойно, обязательно скрипели сапогами и громко открывали глазок. Все, как всегда, зависит от человеческой натуры. И в общем, вертухай ушел, установилась тишина. И вдруг на мгновение открылась форточка, как щелчок фотоаппарата, и в камеру влетел какой-то сверток. И форточка сразу закрылась. Я опасливо подошел к свертку, развернул газету — всегда все заворачивали в газету, — а там махорка, несколько спичек и кусочек чиркалки, чтобы эти спички зажигать. Сейчас от коробка эту чиркалку не отломать, потому что она картонная, а тогда их делали из очень тонкой фанеры. То есть вот такой случай — этот «генерал», которого все считали очень строгим, сделал для меня такое. То есть в любых условиях можно сохранить в себе что-то человеческое. Мне очень запал в душу этот эпизод. Я совершенно не суеверный человек, но мне кажется, что если «генерал» совершал в жизни какие-то грешки, то этот его человеческий жест станет ему одним из прощений.
И вот какую маленькую деталь я вспоминаю. Еще на Шпалерке со мной сидел мужчина, русский, но привезенный из Финляндии. Наверное, шпион, как и многие. Нас всех поражала его обувь и рубашки — ни у кого из наших таких не было. Он предлагал меняться на паек, но никто, кажется, не менялся: считалось, что это будет неэквивалентное обирание человека, еще сохранялись какие-то человеческие устои, которых теперь нет.
Вообще во время моего сидения у меня бывали разные соседи. Однажды ко мне воткнули совершенно безумного человека, даже не сумасшедшего, а находящегося на нижайшем уровне интеллектуального развития. Зачем его посадили? Я не мог этого выяснить, потому что он почти не говорил, только все время ныл, плакал. Он был очень маленького роста, почти без головы, если смотреть сзади, то почти совсем не было черепа. И весь серый — серая одежда, серое лицо, серые руки. Общаться с ним было невозможно, он был с самим собой, я — с самим собой. И его все время таскали на допросы. А как-то я вернулся с прогулки — у нас ежедневно была двадцатиминутная прогулка — и увидел, что он сидит в дальнем углу камеры и бьется головой о стену. Причем по-настоящему бьется, сильно. Вертухай тоже это увидел и, видимо, сразу куда-то сообщил, потому что парня тут же куда-то забрали.