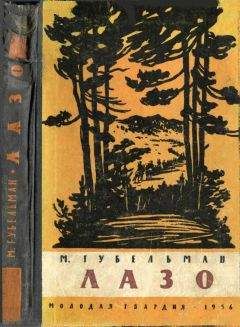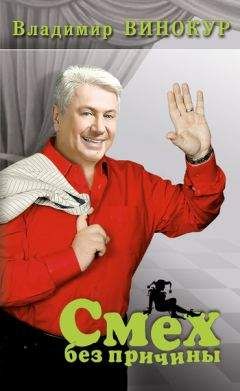— А разве тебе не хочется повидаться с мадемуазель Гроссе?
— Мари?
Сергей оживился. Мари… Да, ему хочется ее видеть…
Первое увлечение.
Ему очень нравилась эта светловолосая девушка с темной родинкой над верхней губой и голубыми глазами. Вспомнились гимназические годы, таинственные свидания в Пушкинском саду, робкие поцелуи. Она спросила:
— Мы никогда не расстанемся, Сережа?
— Никогда, Мари.
— А если вы уедете в Петербург?
— Я возьму вас с собой, Мари.
— Меня мама не пустит.
— Я украду вас, Мари!
Он ночью тихо подойдет к окну ее комнаты, бросит на балкон веревочную лестницу… Как в рыцарских романах… На углу их будет ждать тройка самых лихих коней… Он увезет ее в величавую северную столицу, в далекий неведомый Петербург. Они будут вместе. Всегда. Всю жизнь!..
Вспомнил и улыбнулся. Наивные полудетские мечты. Он уехал. Один, конечно. Написал ей из Петербурга несколько писем. Вначале: «Дорогая, любимая», потом: «Милая», а еще потом просто: «Здравствуйте, Мари!» Получил в ответ не то два, не то три письма. Вот и все.
А в памяти остался все же приметный след.
— Ты говоришь, мама, там будет мадемуазель Гроссе?
— Я встретила сегодня в соборе мадам Гроссе, она сказала, что приедет с дочерью непременно.
— А она еще мадемуазель?
— Представь, Сережа, да. Но, кажется, Мари будет скоро уже мадам.
— Хорошо, поедем на карнавал. Разреши мне только обойтись без петушиных нарядов.
— Ну, как знаешь!
Вечером Сергей с матерью поехали в Дворянское собрание. У ярко освещенного подъезда в несколько рядов стояли пролетки, коляски, кареты, слышалась разноязычная речь. Говорили на румынском, молдавском, реже русском и большей частью французском языках.
Появление мадам Лазо с сыном привлекло всеобщее внимание. Густо напудренные пожилые женщины, девушки в маскарадные костюмах не скрывали своего восторга, увидев высокого статного молодого красавца в новом офицерском мундире.
— Сережа! — услышал он за спиной знакомый голос.
— Мари?
Перед ним стояла царевна-лебедь в ослепительно белом платье и осыпанном бриллиантами головном уборе.
Он предложил ей руку, они прошлись по залу к поднялись на балкон. Гремел оркестр. По зеркальному паркету с легким шумом неслись танцующие пары.
— В армию, Сережа? — спросила Мари.
— Да, Мари.
— А если убьют? Я не хочу, Сережа! — И крепко сжала его руку.
— Разве меня одного? Многих убивают. Чем я лучше других? Впрочем, меня убьют еще не так скоро. Пока посылают в Красноярск.
— Правда? — В ее глазах сверкнула искра радости.
Он посмотрел на нее благодарным взглядом.
— Выходите замуж?
Она опустила голову и ничего не ответила.
…К Сергею подходили какие-то отставные офицеры, щеголеватые старички в смокингах с белыми цветками б петличках и орденскими лентами через плечо. Они знали его мальчиком, гимназистом. Как вырос, вытянулся, расцвел!
— Экий красавец!
— Ну-с, молодой человек. Желаем вам добить немцев. Уж вы-то честно послужите отечеству и царю-батюшке.
— Обязательно. Послужу отечеству своему и народу, — ответил Сергей. — Народу и отечеству, — повторил он и, щелкнув каблуками, поклонился знакомой даме и закружился с нею в вальсе.
Вокруг зашептались.
— Вы слышали? — взволнованно сказал престарелый полковник в отставке какому-то чиновнику в сюртуке с Анной на шее. — Нет, вы слышали? Каково, а? «Народу и отечеству», понимаете? Не царю-батюшке, а народу…
— М-да… — процедил чиновник, глядя вслед танцующему молодому прапорщику. — Знавал я его гимназистом. Учтивый такой юноша был… А теперь… подменили Сергея, подменили, — сокрушенно покачал он головой.
В просторном помещении было пусто. Солдаты ушли в баню, и в казарме оставался лишь дневальный. Взобравшись на табуретку поближе к единственной, тускло светившей электрической лампочке, он, шевеля губами, по складам разбирал написанное каракулями письмо. По лицу солдата сбегали к подбородку крупные слезы.
Увлекшись чтением, дневальный не заметил, как открылась дверь и вошел новый командир взвода.
— Чего плачешь, Фролов?
Солдат вздрогнул, соскочил с табурета и, взяв под козырек, с испугом отрапортовал:
— Никак нет, ваше благородие!
— Вольно! А зачем говорить неправду?
— Никак нет, ваше благородие! — упрямо твердил Фролов, стараясь движениями мышц согнать с лица так некстати оброненные слезы.
— Что у тебя в руке? — Офицер показал на зажатое в кулаке солдата письмо. — Ты не скроешь от меня ничего — насквозь вижу.
— Провалиться на месте, ваше благородие!
— Глаза почему мокрые?
— Потею, ваше благородие!
— Первый раз слышу, чтоб от холода глаза потели, — улыбнулся взводный, а затем строго повторил: — Я спрашиваю, что у тебя в руке? Откуда письмо?
Дневальному некуда было деваться.
— Глупости пишут, ваше благородие. Известное дело — деревенская темнота, бессознательная…
— Покажи! — приказал командир.
Едва разжав трясущиеся пальцы, Фролов стал разглаживать помятый листок.
— Ничего, я сам.
Офицер взял из рук солдата письмо и начал читать. Фролов стоял ни жив ни мертв. Кончено. Все пропало. Узнает теперь взводный и про хлеб, и про лебеду, что едят вместо хлеба, и про корову, что пала от бескормицы. Ладно бы еще про хлеб и про корову. А что делать с проклятьями, которые шлют и отец, и мать, и бабка с дедом на головы тех, кто затеял эту проклятую войну?..
«Был Фролов — нету Фролова. За такие крамольные письма быть тебе, Фролов, в дисциплинарке. Возить тебе, Фролов, тачку на цепи, как собаке».
Мрачные картины рисовались воображению солдата, пока командир внимательно вчитывался в письмо.
— На, возьми, — сказал офицер, возвращая письмо. — Правильно все пишут, Фролов.
— Темнота… Никак нет, ваше благородие!..
— Не бойся, Фролов. — Прапорщик положил руку на плечо солдата и пристально посмотрел ему в глаза. — Ничего плохого я тебе не сделаю. Плакать не надо. Вытри слезы. А письмецо покажи ребятам.
— Эх, да что ребятам, ваше благородие! — оживился Фролов. — У каждого в сундуке есть и похлеще.
— Ладно, об этом как-нибудь потом поговорим, — сказал офицер и, посмотрев на гимнастерку солдата, заметил — А пуговицы застегивать полагается, на то они и пуговицы.
— Виноват, ваше благородие!
Но не успел Фролов исправить изъян в своем туалете, как вошел ротный командир. Солдат вытянул руки по швам.