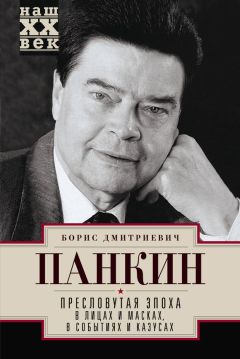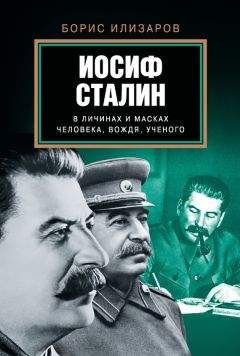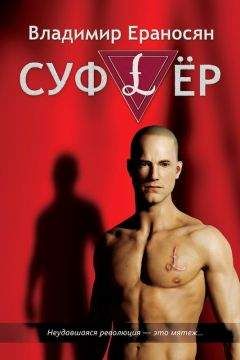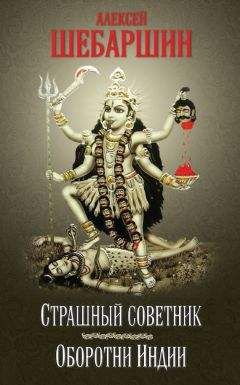Ознакомительная версия.
Дмитрия Петровича Горюнова не было тогда на «этаже» – то ли находился в отпуске, то ли в командировке.
И первый раз я увидел его на летучке – еженедельном собрании сотрудников газеты в ее Голубом зале для обсуждения вышедших номеров. И он не произвел на меня впечатления.
Маленького роста, коротко стриженный, на коротких с кривизной ногах, со вздернутым, как у Павла Первого, носом и толстыми губами.
А главное, какой-то, как мне показалось, несолидный. Мне больше импонировал другой главный, с которым я имел дело два года подряд в областной саратовской газете «Коммунист», где в качестве литсотрудника проходил производственную практику. Вот это был редактор. Никто не осмеливался возразить ему. Все, что он говорил, вернее, приказывал, воспринималось как закон и исполнялось беспрекословно. У Горюнова же на летучке был какой-то базар. Так что ему то и дело приходилось призывать к тишине. Его и самого прерывали. И даже, к вящему моему разочарованию, да, да, разочарованию, находились такие, кто позволял себе не соглашаться с ним, на что он реагировал чем-то средним между фырканьем и хрюканьем, что тоже в моих глазах не придавало ему особого веса. Я не понимал тогда, что саратовский редактор просто следовал общепринятому партийному стилю а la Сталин, а Горюнов позволял себе оставаться самим собой.
Приняв это за слабость или нерешительность, я вскоре чуть было не пал жертвой этого заблуждения. Как-то поздно вечером на моем ободранном рабочем столе – я в гулком одиночестве дежурил по отделу – зазвонил телефон. Я приложил трубку к уху.
– Горюнов, – сказала трубка.
Дезориентированный тем, что мы теперь называем демократизмом босса, я в непринужденной манере спросил трубку, что, собственно, ей надо от меня.
– Гор-р-рюнов, – рявкнула она, прежде чем в редакторском кабинете, где мне еще не доводилось бывать, ее бросили на рычаг. Минут через пять, в течение которых я пребывал в некотором недоумении, дверь приоткрылась и показалась голова секретарши редакции Любы.
– Панкин, – сказала она звонко – командным тоном. – Вызывают!
И тут уж я, позабыв мигом все рефлексии, опрометью бросился за ней.
Не помню, о чем мы тогда говорили с Дмитрием Петровичем, вернее, за что он мне выговаривал, но думаю, что я ему в тот вечер не понравился. А возможно, он был недоволен тем, что меня приняли на работу в его отсутствие. Может быть, он подумал, что Аджубей, тогда всего-навсего член редколлегии по отделу спорта, слишком многое себе позволяет.
Так или иначе, в следующий раз он вызвал меня, чтобы объявить… о сокращении.
Стол в редакторском кабинете со стенами, обшитыми деревянными поблескивающими панелями, был такой же необозримый, как сам кабинет, а кресла по обе его стороны были почему-то низкими. Так что, когда мы уселись в них после ритуального рукопожатия, ради которого Д. П., как его звали в редакции, вышел мне навстречу, над лакированной столешницей возвышались только две наших головы. Его уже пересыпанная сединой, моя – всклокоченная, с постылым завихрением на затылке. «Как в кукольном театре», – успел подумать я, прежде чем услышал то, что меня оглушило.
– Вы знаете, что есть указание сократить численность редакции на двенадцать человек, – сказал редактор и издал горлом уже привычный для меня хрюкающий звук.
Я кивнул.
– Мы подумали, перебирали – кого. Нелегкая, доложу я вам, работа. У нас, к счастью, было несколько вакансий. А дальше пришлось резать по живому.
Я невольно поежился, словно нож уже коснулся моей бренной плоти, и он заметил это. Кажется, смутился.
– Да, выбор пал и на вас. Не будешь же увольнять людей, которые проработали в редакции по десять – пятнадцать лет. А то и больше. А вы человек молодой. – Он сделал паузу. – Способный. У вас все еще впереди.
Я, еще не отдавая себе отчета в том, что подо мною разверзлась пропасть, встал и пошел к двери, до которой от редакторского стола было не близко.
Дело было в конце июня 1953 года. И еще полчаса назад казалось, что все определилось на этом этапе моей жизни. Закончив университет с дипломом с отличием, я был переведен в «Комсомолке» из стажеров в сотрудники. Мне казалось, что это не было формальным, автоматическим актом, потому что за это время я умудрился несколько раз напечататься, заслужить похвалы в сообщениях «дежурных критиков», словом, окорениться…
И вот все это пошло прахом. Ощущение было такое, словно между мною и окружающим меня миром – редакторской приемной с сочувственно взирающей на меня Любой, шестым этажом, как издавна уже называли «Комсомолку», комнатой нашего отдела сельской молодежи, где я как потерянный собирал свои книги и бумаги, опустился невидимый, прозрачный, но плотный занавес… И голоса утешавших меня приятелей доносились откуда-то издалека.
Не помню, что я делал и где я был следующие два дня. Благо жена с тещей успели уже уехать на юг, в приморский колхоз под Адлером, где их семья проводила летние месяцы уже несколько лет подряд. Тесть был в командировке.
Я пытался объяснить самому себе, что, собственно говоря, меня больше всего удручает в создавшейся ситуации: перспектива огорчить жену, которая, ничего не ведая, ждет меня у моря, или необходимость искать работу через полтора месяца после окончания университета, где второй раз моим распределением заниматься не будут.
Уверив себя, что двери саратовского «Коммуниста» для меня всегда открыты, я решил, что и жене ничего пока говорить не буду. Совру, что не могу сняться с места из-за важного редакционного задания. А там видно будет.
Утром третьего дня раздался телефонный звонок, и я услышал в трубке:
– Слышь, папа…
Детей у меня тогда еще не было, и я понял, что это обращение к моему коллеге в отделе сельской молодежи Юрке Фалатову. В редакции было принято называть друг друга «старик». Фалатов отличался тем, что адресовался ко всем, даже к особам женского пола, например к моей жене, – папа.
– Папа, – говорил он ей, когда она звонила в редакцию, что случалось частенько, – ты старика не занимай. Папа у главного.
Послушать Юру, я дневал и ночевал в кабинете Горюнова, в который меня как раз не очень-то приглашали.
– Слышь, папа, – повторил теперь Фалатыч, словно обрадованный тем, что я откликнулся. – Ты где гуляешь? Мы тебя второй день с Илюхой ищем. Дуй в редакцию. Тебя Горюнов вызывает.
Через полчаса я уже сидел снова в знакомом кабинете. Одна голова по ту, другая по эту сторону стола.
– Вот что, – с тем же прихрюкиванием сказал Д. П., не вдаваясь в объяснения. – Как говорится, лес рубят, щепки летят. Меня тут третий день ходоки осаждают. – Тут он пристально посмотрел мне в глаза, словно пытаясь угадать, не я ли организовал их наплыв. – Короче, – словно бы рассердившись на самого себя за многословие, закруглил он свою отнюдь не продолжительную речь, – идите и работайте. И уже вслед моей спине добавил: – Только не в сельский, а в комсомольский отдел…
Ознакомительная версия.