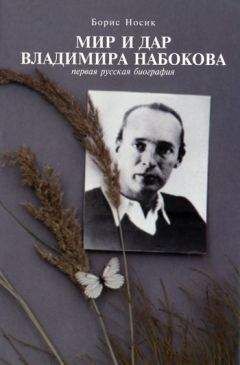Может, именно эта особенность набоковского рая детства обусловила отчасти столь мучительные метафизические поиски на протяжении всей взрослой жизни писателя:
«Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни!.. Я забирался мыслью в серую от звезд даль — но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади. Казалось, кроме самоубийства, я перепробовал все выходы…»
Конечно, немалую роль в этих трудностях сыграли неизбежный индивидуализм и писательская неконформность, нежелание идти в толпе, за толпой:
«…в метафизических вопросах я враг всяких объединений и не желаю участвовать в организованных экскурсиях по антропоморфическим парадизам, мне приходится полагаться на собственные слабые свои силы, когда думаю о лучших своих переживаниях…»
Набоков объяснял, что именно поиски вечности привели его назад к детству и младенчеству: «…не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы — своего младенчества». Рай младенчества и детства оказывается способом приблизиться к вечности и заменой другого рая.
Детство — это время провидения и ясновидения, и события будущего словно отбрасывают свою тень в детство. Напомним один из эпизодов такого провиденья. Крестьяне приходят для переговоров с барином и, получив от В.Д. Набокова какие-то уступки, начинают качать его под окном столовой, через которое сыновья его, продолжающие обедать, видят взлетающего на воздух отца:
«Там, за стеклом, на секунду являлась, в лежачем положении, торжественно и удобно раскинувшись в воздухе, крупная фигура моего отца; его белый костюм слегка зыбился, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Дважды, трижды он возносился, под уханье и ура незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго, и вот в последний раз вижу его покоящимся навзничь, и как бы навек, на кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров небожители, которые, в непринужденных позах, поражающих обилием и силой красок, парят на церковных сводах в звездах, между тем как внизу одна за другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой огней в мрении ладана, и иерей читает о покое и памяти, и лоснящиеся траурные лилии застят лицо того, кто лежит там, среди плывучих огней, в еще не закрытом гробу».
Те, кто читал «Другие берега», помнят, наверно, и эпизоды детского ясновиденья: поездка матери за подарком для больного Лоди на Невский, гигантский карандаш в витрине…
Напомним уже приведенное выше мнение одного из лучших российских набоковедов (В. Ерофеева) о том, что «набоковский рай трудно назвать языческим… По причине того, что в нем есть парафраз христианской божественной иерархии», есть бог-отец, выполняющий «функции… бога любви».
Так или иначе, для меня несомненно, что В. В. Набоков был человек верующий (хотя, конечно, вера его была не вполне ортодоксальной, не церковной). Претензии к нему по этой линии слышатся чаще всего от людей, для которых собственная монополия на веру и духовность отчего-то несомненна. А также от тех, для кого форма верования важнее его истинного содержания.
Однако вернемся в Петербург набоковского детства, в знаменитый дом на Большой Морской: «…у нас был на Морской (№ 47) трехэтажный, розового гранита особняк с цветистой полоской мозаики над верхними окнами».
Ведомый своей безотказной памятью, Набоков и через пятьдесят лет бродит по этому дому, ожидая в зимних сумерках урока с очередным наставником-англичанином.
«Приходил камердинер, звучно включал электричество, неслышно опускал пышно-синие шторы, с перестуком колец затягивал цветные гардины и уходил. Покинув верхний, „детский“, этаж, я лениво обнимал лаковую балюстраду и в мутном трансе, полуразинув рот, соскальзывал вдоль по накалявшимся перилам лестницы на второй этаж, где находились апартаменты родителей…»
С трепетом входит мальчик в кабинет отца:
«Там и сям, бликом на бронзе, бельмом на черном дереве, блеском на стекле фотографий, глянцем на полотне картин, отражался в потемках случайный луч, проникавший с улицы, где уже горели лунные глобусы газа. Тени, точно тени самой метели, ходили по потолку…»
Магический дом. В нем есть еще гостиная, будуар с «фонарем», откуда видна Морская, есть концертная зала, проходной кабинетик, откуда «низвергается желтый паркет из овального зеркала над карельской березы диваном (всем этим я не раз меблировал детство героев)». На стенах комнат — замечательные картины. Среди их создателей и модные мирискусники, и тронутые патиной времени традиционалисты, мимо которых, фыркая, проходит Александр Бенуа, — он дает уроки рисования маленькой Елене Набоковой. Владимиру уроки дает сам Добужинский…
Отец с матерью не пропускают ни хороших концертов, ни интересных спектаклей (в день своей гибели театрал и знаток В.Д. Набоков закончил новую главу воспоминаний о театральной жизни Петербурга). В их доме на Морской дают концерты замечательные музыканты, поют знаменитые певцы. И все чаще собираются здесь бунтари-либералы, кому этот строй, дающий им столько привилегий и благ, кажется устаревшим, несправедливым. Юный Лоди, в отличие от этого поколения народолюбцев, не питает особых иллюзий в отношении простых людей, с которыми ему доводится иметь дело (правда, это по большей части петербургская прислуга, лакеи, может, и впрямь не лучшая часть русского населения). Что до В.Д. Набокова, то он не нуждается ни в какой эмпирической опоре для своих принципов. Он убежден, что справедливость и закон должны охранять права всех без исключения граждан, что права эти гарантирует конституция, их гарантирует избранный народом парламент — как в Англии… В доме культ всего английского. Вслед за парламентскими идеями проникают в набоковский дом английское мыло, прозрачное в мокром виде и черное — в сухом, английские пудинги, английские игрушки, «и хрустящее английское печенье, и приключения Артуровых рыцарей, та сладкая минута, когда юноша, племянник, быть может, сэра Тристрама, в первый раз надевает по частям блестящие выпуклые латы и едет на свой первый поединок» («Подвиг»), Эдемский сад представлялся маленькому Лоди британской колонией. Он и читать по-английски научился раньше, чем по-русски. Первые легенды и сказки этого ребенка были не русские, но «не все ли равно, откуда приходит нежный толчок, от которого трогается и катится душа, обреченная после сего никогда не прекращать движения?» («Подвиг»). Следом за английскими книжками пришли французские и русские. В петербургском доме В.Д. Набокова была огромная библиотека (а в ней даже библиотекарша, составлявшая каталог). Восьми лет от роду Лоди обнаружил там монументальные издания по энтомологии — голландские, немецкие, французские, английские. Чуть позже он стал зачитываться английскими энтомологическими журналами. Потом пришли романы, поэзия. Сперва он увлекался Майн Ридом и ковбойскими играми, потом открыл Уэллса, По, Браунинг, Китса, Киплинга, Конрада, Честертона, Уайлда, Флобера, Верлена, Рембо, Чехова, Блока. Флобера он, конечно, читал по-французски, Шекспира — по-английски, а Толстого снова и снова перечитывал по-русски. Чуть позднее, когда русские стихи стали его «алтарем, жизнью, безумием», у него, наряду с Пушкиным, с Блоком, появилось немало любимых поэтов, чьи имена вдруг всплывают ненароком то в поздних его интервью, то в письмах. Скажем, имя Апухтина. Или Случевского, упомянутого через сорок лет сестрой Еленой. Елена пишет брату из Женевы, что наткнулась на любимое стихотворение их отрочества: