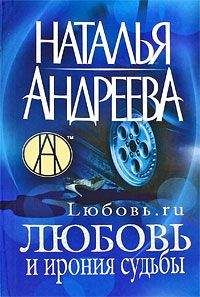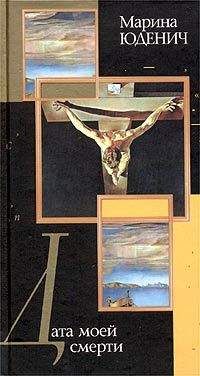и в кармане ни копейки. И самое главное: я понял, что писатель я никчемный. Во-первых, не владею словом, во-вторых, не в ладах с сюжетом — сегодня он есть, завтра он — каша. Писать было ни к чему. Друзья от меня потихоньку расходились. Я жил в мастерской один. Иногда заходил Чеховской. Было так одиноко, что мы бросили пить. Ходили обедать в «Метрополь», и официант Саша наливал нам в графины минеральную воду. Нам ничего не светило, кроме как свалить из страны. Думали: вот свалим и обездолим родину к чертовой матери. Мы всячески скрывали друг от друга, что мы неудачники, потому изображали последних стиляг. Чуча говорил: «Мы — шики». Шики — от слова шикарные… Через несколько дней, когда я врисовал в «Аркадию» красный самолет красной акриловой краской, а потом стирал его с масляной поверхности ацетоном до головокружения и тошноты, я сказал себе: «Шерстюк, если ты не можешь нарисовать самолет в небе, иди подыши свежим воздухом». На Тверском бульваре я увидел МХАТ, вспомнил, что на улице Станиславского поселилась Валька Якунина, и решил: если увижу, что у нее горит свет, зайду пить чай. Свет горел, я постучал в дверь, она была не закрыта, вошел, сказал «здрасьте» и увидел Лену.
Я влюбился с первого взгляда. Лена влюбилась с первого взгляда. Она говорила, что не любит меня, но оставляла ночевать на полу. Она выгоняла меня, но я приходил опять и опять. Иногда, выгнав, бежала за мной по улице босая, а бывало, я уходил в мастерскую, пытался рисовать, но мыл чашечки, дожидаясь ее. Как-то она пришла через сутки, и мы плакали в коридоре. В августе она отправила меня в Крым, а сама уехала на Сахалин в долгий академический отпуск. Она гадала, увидимся мы или не увидимся, когда в первых числах октября распаковывала чемодан у себя в комнате, — дверь была приоткрыта, я постучал и вошел.
Меня любила красивая, очень-очень талантливая женщина. Я изображал перед ней плейбоя, золотую молодежь, хиппи и удачника, я таскал книги в букинистический, чтобы ввести ее в заблуждение, брал в долг у Чучи и клянчил у родителей. Я таки вводил ее в заблуждение — чуть-чуть. Это потом я ввел ее в большое роковое заблуждение. Меня любила красивая, веселая, очень-очень талантливая женщина, но и это чепуха — меня любила настоящая и такая чистая женщина, каких я более не встречал. Вот что я знал: такую, как она, нельзя даже предположить, ее не придумают даже сто лучших поэтов. Она была слишком хороша для этой жизни, но тогда это меня не пугало. Я думал, что Бог снизошел, пожалел меня за все неудачи и наградил за страдания. Всю свою предыдущую жизнь, которую я представлял Леночке цепью сплошных нелепостей, сам я полагал ужасом и горем. Теперь я не чувствовал себя неудачником, а со временем привык к счастью. Я опять решил, что все самое лучшее — мне. Когда я сообразил, что она не просто очень-очень талантливая, а гениальная актриса, было поздно — я уже вовсю надеялся на нашу счастливую звезду. Если честно, я ставил нашу любовь выше ее и моей гениальности. «Гениальность, Леночка, это так просто, только не надо ждать аплодисментов, ты их любишь — получай, но чуть-чуть. Я же требую за свою гениальность много — пусть жлобы оплатят краски и блины с икрой. А очень много аплодисментов и теплоходов с устрицами — наглым посредственностям. Громким и безликим тварям. За гениальность можно пулю схлопотать». — «Ты что, трус?» — «Нет, я клоун». — «Ты ханжа и никакой не гений». Иногда мне нравилось, как она распекала меня за бездарность. Наверное, потому, что, удостоившись похвалы, я был счастлив, как ребенок. А детское счастье долгое-долгое».
Возраст его счастья — двенадцать с лишним лет. Действительно, детское счастье, упавшее в руки взрослого, разочарованного, уставшего от самого себя человека. Оно точно было. Почему же оно так рано закончилось? Почему закончилось столь ужасно? Сергей ищет ответ в этой загадочной области ее большого таланта. Он произносит слово «гениальность», и над этим стоит задуматься, потому что ему многое известно об искусстве и жизни. В размышлениях, приведенных выше, он не идет по ступеням своей вины, как обычно. Это всего лишь догадка. Он вел себя со своим счастьем слишком безмятежно. Все распределил, как ребенок в песочнице: им на двоих — вечная любовь, ей за гениальность — чуть-чуть аплодисментов, ему — немного денег на краски и блины с икрой. Но никто не знает, как высоко уносит актрису ветерок, поднятый занавесом. Как больно ей падать с этой высоты. Она была более прямолинейна, чем он. Она хотела очень много аплодисментов, море аплодисментов, тех, которые он щедро уступал «наглым посредственностям». Или то самое «чуть», о котором он говорил, но при выносе гроба из театра. Под белой вуалью, в черном платке.
В ее жизни были три года настоящего мирового признания. Питер Штайн пригласил Елену Майорову на роль богини Афины в спектакле «Орестея». Они ездили со спектаклем по разным странам, и Лена, наконец, читала в газетах настоящие восторженные рецензии. До этого только Шерстюк, стесняясь, с несерьезной улыбкой мог пробормотать, что она настоящая богиня. Сейчас это увидели все. В этом спектакле много блестящих исполнителей. Но рецензенты выделяли необычную, яркую, голливудскую красоту именно Майоровой.
Многие были против утверждения Елены на роль Глафиры в фильме «На ножах». Якобы она недостаточна красива. Но режиссер Александр Орлов вызвал ее на пробы, и на просмотре все ахнули: так неожиданно, почти страшно красива она была. Ее любила камера, ее обожала сцена. Какой прекрасной и страстной была ее Сара в «Иванове». Амплуа героини-красавицы не закрепилось за ней, потому что она могла больше, чем просто красивая актриса. Она могла быть некрасивой, карикатурной, как в «Мелком бесе». Страшной. Смешной. Не очень молодой. Она не из тех, кто требует от режиссера вырезать кадры, на которых слишком видны морщины. И все-таки очень жаль, что она практически не играла красивых женщин в кино. Возможно, это нелепое предположение, но, может, она относилась бы к себе не так беспощадно, если бы чаще видела себя красавицей на экране? Как Афина. А если бы она сыграла хоть двух счастливых женщин? Не сыграла бы. Красота, талант, ум, темперамент не входят в формулу счастья. Счастье вообще не является предметом рассмотрения искусства. Искусство существует, чтобы будить от тупой спячки человеческие души. Оно заставляет обывателя лить слезы, страдать, бояться чужой крови и