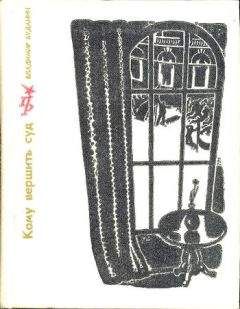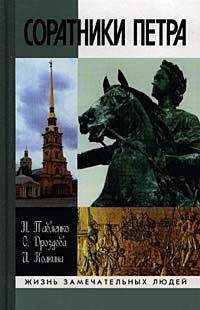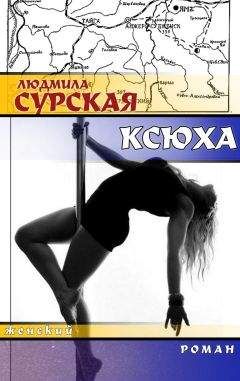Что до передач, то ему ждать их было не от кого. После возвращения из-за границы он виделся только с Федуловым. А о его аресте и Леонтию Антоновичу не было известно. Какие могут быть передачи?
Потому-то Петр так удивился и растерялся, когда молчун-надзиратель, войдя в камеру, буркнул: «Передача» — и сунул ему в руки увесистый матерчатый мешок. Петр хотел сказать, что произошла ошибка, что ему никто не мог ничего передать. Но дверь тотчас затворилась, и надзиратель исчез.
Мешок был столь тяжел, словно его набили камнями. «Наверное, книги», — подумал он. Перебороть искушение и не заглянуть в мешок теперь было выше его сил.
Петр не ошибся. В мешке помимо копченой колбасы, домашнего печенья и папирос (очень даже кстати!) Петр обнаружил несколько книг по экономике и праву, и среди них «Капитал» Карла Маркса на французском языке…
От кого пришла передача, Петр так и не понял, но что она предназначалась ему, сомнений не было. Только много лет спустя Глеб Максимилианович Кржижановский случайно проговорился, что когда-то он с одним студентом-естественником носил передачи Андрею Гурьеву и Петру Красикову. Появление в камере «Капитала» изменило всю жизнь узника. Пусть света для чтения мелкого шрифта было недостаточно, пусть французским владел он не так, чтобы свободно читать столь сложное научное сочинение, — не беда. Он устраивался у столика и углублялся в «Капитал»…
Постигать Маркса было нелегко, хотя он не первый раз читал эту замечательную книгу. В четверг сразу после завтрака в камере появился надзиратель с бутылочкой чернил, пером и листком почтовой бумаги. Положил все на столик и объявил:
— Нынче дозволяется писать письмо домой. Не положено извещать, где пребываете и как содержат вас.
Выяснилось, что четверги и понедельники были «почтовыми днями». Искушение сообщить на волю о себе все без утайки было велико. Однако письма подвергались строжайшей цензуре, и нарушение запретов каралось лишением права переписки.
Писать приходилось едва ли не вслепую. Поразмыслив, Петр решил первое письмо отправить в Женеву Виктории. Затем долго ломал голову, изобретая способ известить ее, а следовательно и Георгия Валентиновича, о своем провале. Написал, что занятия в университете не оставляют ему ни минуты досуга и посему сообщать о себе впредь он будет реже. Тем не менее тревожиться за него незачем — экзамены он выдержит. Крепостная цензура, решил он, очевидно, не найдет ничего предосудительного в его эзоповском языке…
Сквозь окно в глубокой нише проглядывал клочок неба. Оно на глазах наливалось голубизной. Из-за двери дошли обычные утренние звуки — стук шагов, голоса.
Очередной день заключения…
По-иному он словно бы никогда и не жил. Здесь все сделалось обыкновенным, привычным, до мелочей изученным. Случалось, ударяли по сердцу мысли о свободе, о том, что за крепостными стенами и высокими каменными заборами жизнь идет так же, как прежде, когда он еще не был узником. Народ ходит по улицам, ездит на извозчиках, в конке, служит, студенты сидят на лекциях, произносятся речи на «чаях», пишутся прокламации, читаются запрещенные книги. Но воспоминания эти, вспыхивающие в сознании подобно отблескам далеких зарниц, подолгу не держались. Размеренный тюремный быт и однообразно текущее время подавляли все…
V
Более полугода полковник Шмаков не напоминал о себе. Но жандарм не бездействовал — искал «уличающих сведений» о подследственном. Истребовал документы, запрашивал Красноярск и университетское начальство, вел переписку с агентом русской охранки в Париже Рачковским. Лишь осенью Красикова наконец повезли на допрос. В кабинете полковника вновь сидел, как непременная принадлежность обстановки, бессловесный товарищ прокурора Закревский.
— Отдохнули, господин Красиков? — любезно поинтересовался жандарм. — Не угнетает ли одиночество?
— Почему же? Думаю в одиночестве, как вы советовали.
— О чем вам думать? — В голосе полковника не убавилось доброжелательности. — Пришло ваше время отвечать. Именно отвечать. Мы, господин Красиков, располагаем бесспорными доказательствами вашей связи с Плехановым. Вы с ним встречались и в первую, и во вторую поездку. Не угодно ли полюбоваться? — Он протянул Петру фотографический снимок. На нем были запечатлены Плеханов и Красиков у Женевского озера. Петр Ананьевич помнил эту фотографию — он сам уговорил Георгия Валентиновича сняться на память. Могло ли ему прийти в голову, что маленький улыбчивый человечек с фотографическим аппаратом на треноге за несколько франков продаст агенту русской охранки этот снимок?
— Удостоверились? Вы и теперь станете твердить, что были в Женеве только в девяносто втором году и не имели связей с Плехановым?
Петр сумел сохранить самообладание, хотя и лихорадочно соображал, как поправдоподобнее опровергнуть опасную улику.
— Снимок, очевидно, был сделан в девяносто втором году, когда я действительно приезжал в Женеву и познакомился с Плехановым через его жену. Она врач и пользовала нас…
— Господин Красиков, господин Красиков! Зачем же это? Вдумайтесь. В девяносто втором вы были в Женеве летом, так ведь? А на фотографии вы и ваш наставник в пальто. Как же?..
— Был, кажется, пасмурный день. У озера сыро. Мне нездоровилось. А у Плеханова больны легкие.
— Жаль. Вы мне казались неглупым человеком. Ошибся я в вас.
— А я в вас — нет.
В середине ноября Петра неожиданно перевели в «предварилку» на Шпалерной. В камере, куда он попал, содержалось десятка два заключенных — рабочих, студентов, чиновников. Публика была по преимуществу общительная, «свежая», сохранившая еще привычки вольной жизни. От нее словно бы исходило дыхание свободы. В камере почти не прекращались словесные бои. И Петр несколько дней кряду без устали разговаривал, смеялся, напевал.
Недели две промелькнули, как один день. Внезапно его препроводили в тюремную канцелярию, и помощник начальника «Шпалерки» казенным голосом известил, что Красиков Петр Ананьев освобождается под залог в пятьсот рублей, внесенный старшей сестрой заключенного. Новость была столь ошеломляющей, что Петр в первое мгновение и не подумал, как тяжело досталась эта громадная сумма семье. Мысль пришла вовсе малозначительная: «Вот, господин полковник, чем все кончилось. Зря вы старались». Однако тюремный чиновник несколько охладил его, разъяснив, что ему предписывается выехать в Красноярск под гласный надзор полиции и там дожидаться завершения следствия. Для устройства дел ему разрешено пробыть в Петербурге не более трех суток.
За три дня Петр даже не успел толком поговорить со старшей сестрой Евгенией. Чуть свет уходил из гостиницы и дотемна колесил по Петербургу. Побывал у Бесчинского, узнал, что Гурьев угодил в якутскую ссылку, что арестован Трегубов, а сам Арон и Аня отсидели месяц под следствием. Их провал был делом рук Кузьмича. Они установили со всей очевидностью, что бывший швейцар служил в охранке. Как ни противился отец, Арон настоял, чтобы Кузьмича в их доме не было. Теперь они сами за ним следят, и предателю не миновать расплаты.