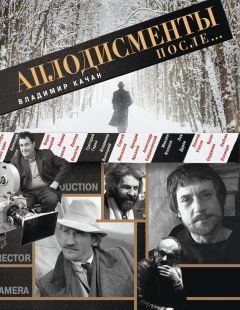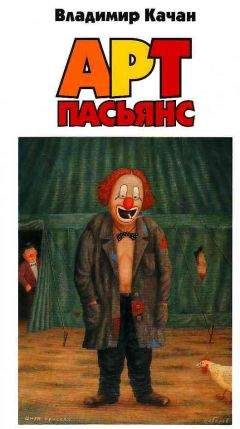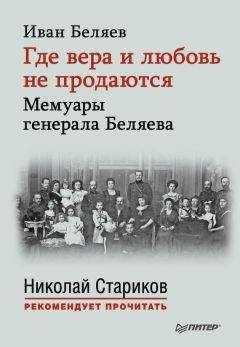Легенда
Меня не покидает «восторг», когда я слышу словосочетание «живая легенда». Значит, существует и мёртвая. А термин «мёртвая легенда» вообще портит настроение. Равно как и «живая легенда» – что-то вроде упрёка в том, что ещё, как ни странно, – живая. Как шутил когда-то писатель Михаил Генин: «Если есть домашние хозяйки, значит, где-то должны быть и дикие».
Не лучше ли – комплиментарно, но и вежливо назвать человека просто легендой?
Вот и Козаков – безусловно фигура легендарная. Люди всегда не только смотрели его фильмы и спектакли, не только слушали, как он читает стихи, но и собирали о нём всяческие сплетни. А нынче, впрочем, как и всегда, легенду без сплетен не сплетёшь. Так, если всем известно, что Козаков умеет и любит читать стихи и знает их в огромном количестве, то попутно возникает полуправда-полусплетня о том, что он во время застолья, не понимая, что утомляет собравшихся, безостановочно читает стихи до утра, не оставляя никому времени даже произнести тост. И это становится юмористической частью легенды. А ведь немногие способны на такое, хотя бы потому, что меньше знают, менее образованны. Козаков образован, он знает русский язык, в чём с ним могут сравниться очень немногие русские артисты. Он отчасти – миссионер. Он желает поделиться с аудиторией стихами и эмоциями, в них заложенными, он несёт в массы культуру, не отдавая себе отчёт в том, что эта культура нужна массам, как виндсёрфинг – похмельному бомжу.
Мы с Михаилом придумали и осуществили спектакль «Ниоткуда с любовью». По стихам его любимого поэта И. Бродского, дневникам, интервью и т. д. Играли, правда, к сожалению, недолго – в театре «Школа современной пьесы». Потом он уехал – с целью умереть там, что потом и исполнил. На снимке мы с ним в гримёрной нашего театра на Трубной. Теперь театр с трудом восстанавливается после пожара. Получается – и театра того нет, и М. Козакова тоже
Но Михаилу безразлично мнение аудитории: он хоть и миссионер, но всё же главное – самому испытывать наслаждение от процесса творчества, происходящего сейчас, в эту минуту. А если кто не понимает, значит, он просто животное, и к нему можно отнестись с пренебрежением и повести себя – рискуя схлопотать по лицу, – оскорбительно и по-барски. Даже в адрес профессиональных критиков он в своей книге выразился так: «Меня не интересует мнение евнухов о любви». Но поскольку Козаков стопроцентный артист – от кокетливой кепочки с красным помпоном до жалоб на здоровье (пусть даже обоснованных), – мнение «евнухов» его всё равно интересует. И не только у критиков, но и у любого случайного человека он может спросить после спектакля: «Ну как?»
В Михаиле Козакове сосуществуют два совершенно разных человека. Вот например: он создал удивительно нежный и обаятельный фильм о любви и невозможности счастья («Безымянная звезда»). В нём есть отзвук, эхо знаменитых «Римских каникул» с Одри Хёпбёрн и Грегори Пеком. И почти невозможно поверить, что этот же человек может публично оскорбить, больно ранить ни в чём не повинного человека. Всё, как у его любимого поэта – Иосифа Бродского. А ещё – страх за себя и свою самосохранность и одновременно – полное пренебрежение собственным здоровьем; абсолютный, даже забавный временами, эгоцентризм и вдруг – пристальное внимание и участие в другом человеке и т. д. и т. д. Он бывает и великим, и мелким, и притом сам это прекрасно знает. Всё, что называется, в одном флаконе. Но… кто-то из великих (чуть ли не сам Пушкин) сказал ведь, что «всё лучшее в себе я отдаю бумаге». Вот так и Козаков: всё его лучшее – творчеству; всё худшее – жизни, быту и прочему.
И я смотрю на него – иногда с восхищением, иногда – с любопытством, а порой – даже с отвращением, которое тут же забывается при очередном его творческом всплеске. И тогда горжусь тем, что он однажды назвал меня другом, что в его устах не играет абсолютно никакой роли, так как любая другая роль и вообще роль – значительно важнее. Но я всё равно горжусь…
И последнее. Эпиграфом к жизни Михаила может послужить цитата из стихотворения ещё одного его любимого поэта Давида Самойлова:
Да, расплачиваться надо на миру
За веселье и отраду на пиру,
За вино и за ошибки – дочиста.
Но зато дуэт для скрипки и альта!
Я всё пытаюсь на этих страницах формирующейся книги избежать популярного жанра под названием «мемуары» и написать серию очерков (или новелл) об известных людях, с которыми связаны не столько мои воспоминания о них, сколько забавные эпизоды из их жизни с моим вольным или невольным участием.
Однако любая попытка убежать подальше от мемуаров заслуживает одобрения, ибо их авторы чаще всего рассказывают о себе, а личности, попадающие в рассказ, даже самые знаменитые, представляют собою не что иное, как кордебалет, миманс, массовку – короче, гарнир, приправу к основному блюду мемуаров – нетленному образу вспоминающего. Однако все мои попытки обречены, несмотря на благородное стремление акцентировать внимание не на себе, а на человеке, о котором идёт речь, и к тому же на каком-то смешном и даже анекдотичном случае с его участием… Но без постоянного употребления местоимения «я» не обойтись, и потому все эти зарисовки всё равно носят черты этакой застенчивой мемуаристики. Но всё-таки «застенчивой», и потому – приступим…
Некоторое время тому назад я был солистом оркестра Л. О. Утёсова, и автором программы под неприхотливым названием «Утёсов-80» номинально числился С. В. Михалков. То есть его авторитетная подпись украшала сценарий программы, а фактически сочинять, придумывать её мог кто угодно. Нет, он, разумеется, бывал на репетициях, и с удовольствием всё комментировал, давал советы, вносил поправки, но прямо скажем, из сил он не выбивался при создании этого концерта. Он уже давно мог себе позволить только поставить подпись в бухгалтерской ведомости и разрешить использовать своё имя в афише. Он заслужил, был в этом уверен и воспринимал любые знаки внимания и уважения к себе с олимпийским спокойствием, и нервы попусту не тратил. Да и вообще он их не тратил… Может, потому и жил долго и мирно со всеми. Его легендарное спокойствие, как устоявшийся стиль взаимоотношений с людьми, породило целую серию остроумных изречений и реплик, ему приписываемых. Почти анекдотов. Я знаю их не меньше дюжины, но расскажу всего лишь два, наиболее, как мне кажется, для него характерных.
Сейчас в обиходе термин «писатель-сатирик». Для меня он загадочен и двусмыслен. Понятно, что писатель… И всё же приставка «сатирик» – это как? Меньше, чем просто писатель, или больше? Салтыков-Щедрин давно классик, но сегодня он непременно угодил бы под рубрику «писатель-сатирик», что было бы для него, пожалуй, более унизительно, чем почётно. Ещё, вероятно, он был бы сегодня «сатириком», потому что невероятно, поразительно современен. Он читается или ставится в театре так, что оторопь берёт: человек написал это задолго до советской власти и тем более демократии. Градоначальники города Глупова со своими нововведениями разве никого нам не напоминают?