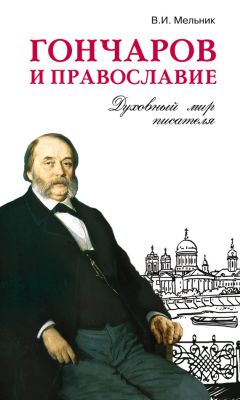Между прочим, перу Надеждина принадлежат труды по русскому расколу: книга «Исследование о скопческой ереси» (1845), записка «О заграничных раскольниках» (1846). Эти труды явились результатом его службы в Министерстве внутренних дел (с 1842 года). Исследовав вопрос о раскольниках, Надеждин сделал вывод о необходимости ужесточения политики властей против раскольников как людей, опасных для государственного устройства России.
Духовный настрой Надеждина как литературного критика сказался в том, что он был сторонником нравственно-воспитательной ориентации искусства. Недаром он называл XVIII век «веком кощунства и нечестия». Зато он одобрял нравственно-христианскую поэзию А. Ламартина, А. Манцони и Новалиса (и отвергал «макабрскую пляску мертвых костей на кладбище жизни» Дж. Байрона, Р. Саути, В. Гюго и Ж. Санд).
При этом Надеждин, как бы предваряя поиски «золотой середины» Гончаровым, пытался соединить христианскую мысль с мечтой о цивилизованности своего отечества. В уже упомянутой статье «Европеизм и народность в отношении к русской словесности» он сетовал на многовековое засилье церковнославянского языка в русской письменности: «При первом введении письма на Русь письменность сделалась церковнославянскою; и эта церковнославянская письменность, по своей близости и вразумительности каждому, тотчас получила авторитет народности. Это не был отдельный, священный язык, достояние одной известной касты — но книжный язык всего народа! Кто читал, тому нечего было читать, кроме книг церковнославянских; кто писал, тот не смел иначе писать, как приближаясь елико возможно к церковнославянскому! Что же сделалось с русской живой, народной речью? Ей оставлены были в удел только низкие житейские потребы; она сделалась языком простолюдинов! Единственное поприще, где она могла развиваться свободно, под сению творческого одушевления, была народная песня; но и здесь над ней тяготело отвержение, гремело проклятие. Народные песни в самом народе считаются поныне греховодной забавой, тешеньем беса! У наших предков законное, безгрешное употребление поэзии разрешалось только в составлении акафистов и канонов или в пении духовных стихов, где доныне звучит священное церковнославянское слово… Так, в продолжение многих веков, последовавших за введением христианства, язык русский, лишенный всех прав на литературную цивилизацию, оставался неподвижно, in statu quo — без образования, без грамматики, даже без собственной азбуки, а в одном и том же, неизменном состоянии, приноровленном к его свойствам и особенностям. И между тем предки наши, в ложном ослеплении, не сознавали своей бессловесности; они считали себя грамотными: у них были книги, были книжники; у них была литература! Но эта литература не принадлежала им: она была южнославянская по материи, греческая — по форме; ибо кто не знает, что богослужебный язык наш отлит весь в формы греко-византийские, может быть даже с ущербом славянизма?»
Личность и любимые идеи професора Надеждина, разумеется, вольно или невольно выказывались на лекциях, Гончаров впитывал образ мыслей своего любимого профессора. Статьи Надеждина проникнуты пафосом примирения европеизма и народности. Очевидно, мысль пришлась по вкусу Гончарову, что положило начало его серьезным размышлениям на эту тему. После отца Феодора Троицкого Гончаров снова попал «в учение» к человеку, который совмещал в себе светские и духовные познания. Думается, что и эта встреча сильно повлияла на выработку философии творчества Гончарова, поставившего в своих романах вопрос, как, будучи современным цивилизованным человеком, тяготеющим к культуре и комфорту, оставаться в полной мере человеком евангельских идеалов, христианином.
Выделяет Гончаров и лекции Степана Петровича Шевырева, который «принес… свой тонкий и умный критический анализ чужих литератур, начиная с древнейших — индийской, еврейской, арабской, греческой — до новейших западных литератур» (VII. 211).
Характерен и его отзыв о будущем редакторе религиозно-патриотического журнала «Москвитянин» Михаиле Петровиче Погодине. Гончаров признает его огромное влияние на развитие и образование студентов, но ему кажется, что в своей религиозности и патриотизме Погодин был не совсем искренен: «У Михаила Петровича… было кое-что напускное и в характере его и в его взгляде на науку… Может быть, казалось мне иногда, он про себя и разделял какой-нибудь отрицательный взгляд Каченовского и его школы на то или другое историческое событие, но отстаивал последнее, если оно льстило патриотическому чувству, национальному самолюбию или касалось какой-нибудь народно-религиозной святыни…» (VII. 215). Эти слова писались уже на склоне лет. Похоже, что Гончаров вполне разделял мнения «скептической школы» Каченовского и его учеников.
На родине. Губернатор А. М. Загряжский
После окончания университета летом 1834 года Гончаров, не имея конкретных планов, отправился на некоторое время домой, в Симбирск: отдохнуть, осмотреться, подумать о будущем. Симбирск жил своей тихой, ни в чем почти не изменяющейся жизнью: «Родимый город не представлял никакого простора и пищи уму, никакого живого интереса для свежих, молодых сил». Это была все та же, хорошо ему знакомая Обломовка. Летом в городе была скука, так как все общество собиралось лишь к осени. Но осенью Гончаров надеялся уже быть в Петербурге. Впрочем, все повернулось не совсем так, как он думал. Крестный Н. Н. Трегубов составил Гончарову протекцию — и его пригласили служить секретарем губернатора Александра Михайловича Загряжского (1796 после 1878). Симбирский губернатор входил в петербургскую масонскую ложу «Соединенных друзей»[89] — может быть, поэтому и не отказал своему собрату Трегубову.
В своих воспоминаниях романист освещает провинциальное масонство как чуждое чего-либо серьезного: «Под тайными обществами, между прочим, разумелись масонские ложи.
Якубов (так в своих воспоминаниях называет Гончаров Трегубова. — В. М.), как почти все дворяне тогда, или, лучше сказать, вся русская интеллигенция, принадлежал тоже к масонской ложе. В Петербурге все лучшие, известные высокопоставленные лица были членами масонских лож; между прочим, говорили, что и Император Александр Павлович тоже был член.
В нашем губернском городе была своя отдельная масонская ложа, во главе которой стоял Бравин[90]. Члены этой ложи разыгрывали масонскую комедию, собирались в потаенную, обитую черным сукном комнату, одевались в какие-то особые костюмы с эмблемами масонства, длинными белыми перчатками, серебряными лопатками, орудием „каменщиков“, и прочими атрибутами масонства.