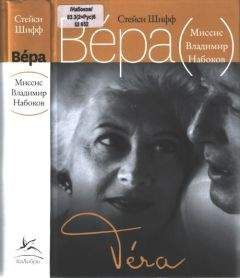Однако перечисленные дружеские связи скорее напоминали библиографический перечень. За пределами творчества близких людей было немного. В середине жизни Вера с Соней стали гораздо ближе, чем прежде, хотя все еще и той и другой ничего не стоило, вдруг разозлившись, хлопнуть дверью. После того как в середине 1968 года Соня переехала из Нью-Йорка в Женеву, сестрам удавалось видеться довольно регулярно. Вместе они организовали в начале года Верин полет в Нью-Йорк таким образом, чтобы перевезти больную и беспомощную Анну Фейгину в Монтрё. Соня с готовностью помогала в этом переезде, но вся ответственность по заботе о Фейгиной неизбежно падала на плечи старшей сестры; Анна с Соней ругались буквально через день, и случалось, что годами не разговаривали. Фейгина считала Соню эгоисткой и максималисткой и доверяла только Вере. Когда в марте 1968 года Вера прилетела в Нью-Йорк, семидесятивосьмилетняя Фейгина уже стала поговаривать о том, чтобы отправиться в Швейцарию на такси. При всей своей хилости она сохранила в себе боевой дух. Во время испытаний, связанных с перевозом Анны, Вера оставалась невозмутимой в своем сером костюме и жемчугах. Она поместила кузину вместе с dame de compagnie [314] в квартиру в Монтрё и навещала каждый день. Эта новая забота дополнительно отнимала немало времени. Пришлось даже прибегнуть к стандартному ответу корреспондентам, объяснявшему долгое молчание ухудшением здоровья кузины.
Значительно меньше времени Вера уделяла Лене, манера которой ее раздражала даже на расстоянии более тысячи миль. Ей не нравилась взвинченность в письмах сестры, отношения сестры с сыном Михаэлем, ее непомерное самомнение. Перемалывания проблемы, разделявшей их, все продолжались. Едва Лена в 1966 году опять затронула вопрос о вероисповедании, Вера резко заявляет, что их разногласия определены: «К чему ворошить прошлое, о котором ты пишешь? Тебе известно, что я об этом думаю, а ты изложила свою точку зрения. Так зачем будоражить воспоминания, которые для тебя мучительны?» Не прибавило у Веры любви к сестре и заявление Лены — хотя та должна была бы понимать, что задевает самые болезненные струны, — что Вера позволяет шведам обводить себя вокруг пальца, поскольку книги Владимира в Швеции переведены чудовищно. Лена, очевидно, была уязвлена — как и Вера ее выпадами, — что сестра не пожелала советоваться с ней в этом вопросе. Мы видим, что Вера редко, даже с просьбой о газетной вырезке, обращалась к Лене, переводчице, входящей в узкий круг таких же специалистов, знавшей, о чем та неоднократно упоминает, многих самых первоклассных шведских переводчиков. Каждая сестра на свой лад продолжает утверждать свое превосходство. У Веры это проявляется в подчеркнутой сухости, равнодушии, крайней невозмутимости.
Отношения ухудшились в начале 1967 года, когда Лена без особой теплоты сообщила сестре о своем внуке-первенце, родившемся семимесячным, к тому же спустя три месяца после свадьбы сына. Вере тон сестры показался неподобающим, о чем она и написала, добавив: «И, слава Богу, мы живем во времена, когда сумели избавиться, хотя бы частично, от средневековых предрассудков, — какая разница, когда родился ребенок, важно, что он родился!?» К середине года сестры переместили свою вражду в плоскость, наиболее для обеих удобную. «„Avorton“[315] по-французски — человеческое существо, животное или растение, преждевременно явившееся на свет. Это слово становится уничижительным, только если употреблено не по прямому назначению или в отношении взрослого человека. Поскольку я по неделе дважды в месяц вожусь с бедняжкой, я знаю, о чем говорю», — не унимается Лена, описывая внука, весившего два фунта и четырнадцать унций. (Малыш оказался вполне здоровым.) И в раздражении бросает в заключение: «Ты просто ничего не понимаешь!» Взглянув на присланные фотографии, Вера дает задний ход, не преминув пальнуть напоследок: «Действительно, я не понимала — ведь ты не способна ничего объяснить по-человечески!» Она изобразила крайнее изумление, узнав в 1968 году, что Лена, достаточно стесненная в средствах, не только не обращалась за возмещением ущерба, но даже не подозревала о такой возможности. Ее собственное дело благополучно решилось, Гольденвейзер обеспечил своей клиентке крупные, даже превзошедшие его ожидания ежемесячные компенсации. Для Лены, наверное, это были огромные деньги. Вера даже в свое явно заботливое письмо по этому поводу постаралась ввернуть колкость насчет разницы между евреями и неевреями; она не простила сестре, что та нашла прибежище в чужой вере. Как и не простила ей того, что Лена, с умыслом или без оного, умудрилась оскорбить Гольденвейзера, с которым Вера ее свела, чтоб тот помог возбудить иск в ее пользу [316].
Вере было приятней общаться с немногими, тщательно отобранными друзьями. В 1964 году Джеймс Мейсон, кубриковский Гумберт Гумберт и сосед Набоковых в Швейцарии, познакомил их с Вивиан Креспи. Креспи сразу же понравилась Вере, которая постоянно восторгалась рассказами этой недавно расставшейся с мужем особы и приняла в ней материнское участие. Практичная, искрометная, политически консервативная, дерзкая Креспи обеими руками ухватилась за это знакомство. Она была из тех женщин, к которой Владимир мог обратиться с таким важным для себя вопросом: «Что вы думаете об отношениях между братом и сестрой?» — «Знаете ли, у меня никогда не было брата», — ответила Креспи [317]. Она могла подтвердить, что Вера имела талант дружить — та давала советы Креспи, как вести себя с Мейсоном, чье выдворение приветствовала, как приветствовала и появление вместо него Луиджи Барзини; с Креспи Вера делилась своими мыслями в отношении будущего для Дмитрия, — но одновременно Креспи казалось, что по существу Вере мало кто нужен. Грубоватый юмор Креспи Вере пришелся весьма по вкусу; она хохотала, когда та описывала прелести новой жены их общего друга, в прошлом циркачки. Кроме того, Веру также восхищало и умение ее молодой подруги одеваться, потому и зазывала ее в магазин дамской одежды в Веве, где Вера приобретала свой немногочисленный гардероб. Ходить по магазинам Вера не слишком любила, признаваясь Креспи, что одной ей это проделывать ужасно скучно. Наверняка так оно и было; однако дотошная Креспи полагала, что у этих приглашений были и иные причины: она обнаружила, что Вера чудовищно, болезненно стеснительна. В присутствии Креспи Вера чувствовала себя более раскованно, чем обычно позволяла себе миссис Набоков. Узнав, что дочь Мейсона встречается с участником рок-группы «Кровь, пот и слезы», Вера язвительно заметила: «Надеюсь, он у них не второй компонент!» Когда ее спросили, что она думает о портрете, написанном Мейсоном, Вера сказала: «Очень похоже на карлика из журнальчика „Псих“».