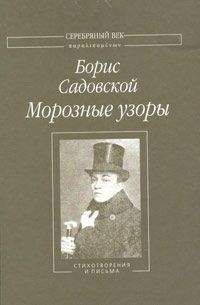Вообще трудности он умел переносить стоически, будучи не только добрым, но и мужественным человеком.
Уже тяжело больной, он сохранил способность улыбаться, шутить в жизни и в стихах. Даже в это нелегкое время он постоянно работал, оставался на редкость общительным и доброжелательным. Он хотел, чтобы рядом с ним постоянно были люди.
Часто он приглашал к себе и меня. Особенно настойчиво в последние дни своей жизни.
Когда я привез ему, с трудом передвигающемуся по комнате, первый экземпляр его книги «Избранные стихи», вышедшей в 1979 году в издательстве «Художественная литература», он радовался как малый ребенок.
В предисловии к этому изданию я написал о том, что, на мой взгляд, о поэтах надо судить по высшим их достижениям. И Николай Иванович немедленно откликнулся, как он это делал часто, на такую мою мысль. В стихах этих вместе с грустной улыбкой был и упрек в мой адрес за то, что не часто его навещаю. Впрочем, вот они, эти стихи, полученные мною за два дня до смерти поэта:
Быть снисходительным решил я
Ко всяким благам:
Сужу о друге по вершинам,
Не по оврагам!
Когда меня ты забываешь,
В том горя нету.
А у меня когда бываешь,
Я помню это!
Когда он умер, остро ощутил я эту утрату, еще отчетливее осмысляя неповторимое своеобразие его поэзии, воскрешая в памяти встречи с Николаем Глазковым и его стихами.
Еще в 1945 году, в конце Великой Отечественной войны, мы, начинающие авторы, хорошо знали его и его поэзию.
В то время при издательстве «Молодая гвардия» работало литературное объединение, которым руководил тогда еще малоизвестный, но прекрасный поэт и человек Дмитрий Кедрин.
Собирались мы в помещении Политехнического музея. Вот тогда-то всех нас и поразили стихи Николая Глазкова. При всей их доступности и кажущейся простоте они были совершенно необычными, неожиданными.
Помню, как он читал:
Слава — шкура барабана:
Каждый колоти в нее.
А история покажет,
Кто дегенеративнее.
Именно не гениальнее (как привычней было бы сказать), а — дегенеративнее. Так через отрицание шло утверждение…
Позже, в пятидесятые годы, когда я работал в редакции журнала «Юность», Николай Глазков нередко появлялся у нас и, увидев на моем столе горы рукописей, острил:
— У меня, Коля, есть предложение: чтобы разгрузить тебя, чтобы не читать тебе эти завалы рукописей, я подарю тебе силомер.
У Глазкова были могучие кисти рук. Пожатие его было железным, потому что он всю войну пилил и колол дрова, зарабатывая на пропитание. Он предложил:
— Когда к тебе будут приходить поэты и приносить рукописи, ты будешь давать им силомер. Если они не смогут выжать и пятидесяти килограмм, им спокойно можно возвращать рукописи, не читая их. Они наверняка окажутся слабыми у такого малосильного человека. А если автор сможет выжать семьдесят и больше килограмм, его рукопись можно, не читая, отправлять в набор: стихи у сильного человека обязательно будут сильными…
И он несколько застенчиво улыбался…
Олег Дмитриев, Николай Старшинов и Николай Глазков. 60-е годы
А позднее, когда мы подружились (при всем этом мне так и не удалось напечатать в «Юности» ни одного его стихотворения, хотя я неоднократно пытался это сделать, но он не обижался, зная, что я отношусь к нему как к поэту и человеку, с любовью), он постоянно присылал мне какие-то вырезки из газет, из журналов, из календарей с моими стихами или с упоминаниями моего имени.
Любил он и поздравить (и, конечно, еще многих!) с праздником. Меня он чаще всего и аккуратнее всего поздравлял с днем рыбака, зная мою приверженность к рыбалке.
Не забывал он это делать даже тогда, когда находился в дальних и длительных поездках. Так, однажды откуда-то из-под Магадана он прислал мне в день рыбака такое послание:
Старшинов Коля, милый друг,
Прилежно и толково,
Когда ловить ты будешь щук,
То вспоминай Глазкова!
А такое необычное послание я получил из Якутии:
Люблю миры рыбацких снов —
В них обитает хариус.
Их обожает Старшинов
И президент Макариус!
Его остроумию не было предела. Так, одному поэту, который не любил ходить в баню и нередко не мылся месяцами, он говорил:
— Дорогой, не мойся, не теряй своей индивидуальности!..
Он был человек незлобивый, веселый, постоянно остривший, пересыпавший свою речь и стихи парадоксами, любивший и умевший писать на ходу экспромты, поздравления, посвящения, акростихи.
О Николае Глазкове ходила слава как о гении. Да он и сам поддерживал эту версию, правда, всегда в этом случае у него присутствовала ирония, которая позволяла расценивать эти его заявления и серьезно и несерьезно.
Так, однажды, встретив меня на площади Пушкина, он сказал мне несколько очень уважительных слов о великом поэте, а потом заключил:
— Гений!
Потом, полусерьезно, полушутя, как это у него почти всегда бывало, добавил:
— Я вот все думал раньше — как хорошо быть гением!.. Ну вот стал им и, что ты думаешь, рад, что ли?!
Эта ирония нередко явственно ощутима в его стихах:
Как великий поэт
Современной эпохи,
Я собою воспет,
Хоть дела мои плохи…
Когда у меня не было настроения для шуток, а Николай Иванович продолжал их, я говорил ему очень серьезно: «Коля, хватит острить. Давай поговорим серьезно».
И он становился внимательным, сосредоточенным и серьезным.
Очень часто его ироничность скрывала его глубокие внутренние переживания. Глазков как бы надевал маску, которую мог не снимать неделями. Она стала его второй натурой, настолько естественной казалась для него.
Невозможно было уловить, где он говорит всерьез, а где — шутит. Он сам точнее всего сказал о себе и о поэзии такого рода в «Гимне клоуну»: «Надо быть очень умным, чтоб сыграть дурака!..»
В свете таких строк становятся понятнее многие его иронические стихи, такие, скажем, как «Ворон», «Волшебник», «Ты, как в окно…», «За мою гениальность», «Тапочки», «О литературных влияниях».
Наиболее самобытные черты поэтического лица Николая Глазкова проявились в стихах, связанных с его биографией, с подробностями его жизни. И здесь самые высокие удачи приходили к поэту в редком и трудном жанре иронической лирики. Стихи, относящиеся к этому жанру, построены, как правило, на парадоксальном сочетании смешного, нелепого и трогательного.