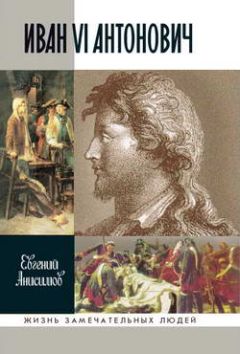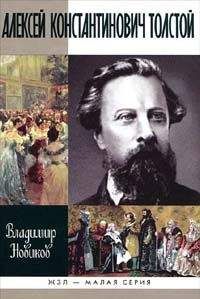Прошло совсем немного времени, и мир забыл, из-за чего, собственно, поссорились один малосимпатичный господин из Берлина и три прекрасные дамы из Вены, Версаля и Петербурга.
ГЛАВА 13
«Я БУДУ ЦАРСТВОВАТЬ ИЛИ ПОГИБНУ!»
Когда Елизавета Петровна стала императрицей Всероссийской, то первое, что она сделала, это вызвала из Киля - столицы Голштинии - своего племянника, сына своей старшей сестры Анны Петровны, герцога Карла Петера Ульриха. Он был сиротой. Его двадцатилетняя мать умерла вскоре после рождения сына 10 февраля 1728 года, а отец, герцог Карл-Фридрих, скончался в 1739 году, оставив престол 11-летнему сыну. В январе 1742 года голштинский герцог был привезен в Россию.
Приехав в Россию, мальчик недолго оставался в немцах. Его перекрестили в православную веру, нарекли Петром Федоровичем, и 7 ноября 1742 года он был объявлен наследником русского престола, «яко по крови нам ближнего, которого отныне великим князем с титулом «Его императорское высочество» именовать повелеваем». В церквях Петра отныне поминали сразу после императрицы, при встрече не только он прикладывался к руке Елизаветы, но и она целовала его руку. Впрочем, формальный почет, который оказывали Петру Федоровичу, мало что значил в реальной политической жизни. Он оставался бесправен, несвободен, его совершенно не допускали к государственным делам.
Но не одной политикой руководствовалась императрица в отношениях с ним. Карл Петер Ульрих был не просто голштинский герцог, волею судьбы наследник русского престола, но и сын так рано умершей и такой любимой Елизаветиной сестрицы Аннушки. В его жилах текла кровь Петра Великого, этот мальчик был для Елизаветы единственным родным человеком. Поэтому императрица встретила его с распростертыми объятьями и поначалу даже полюбила его.
Как вспоминал учитель Петра Федоровича академик Штелин, во время крещения мальчика в православную веру больше всех волновалась сама государыня, она «была очень озабочена, показывала принцу, как и когда должно креститься, и управляла всем торжеством с величайшей набожностью. Она несколько раз целовала принца, проливала слезы». После торжества императрица подарила племяннику новую прекрасную мебель, которая была сразу же расставлена в его апартаментах. На великолепном туалете «между прочими вещами стоял золотой бокал и в нем лежала собственноручная записка Ее величества к… тайному советнику Волкову о выдаче великому князю суммы в 300 тысяч рублей наличными деньгами. Оттуда эта нежная мать возвратилась опять в церковь, повела великого князя в сопровождении всего двора в его новое украшенное жилище» (Штелин, 1886, с.77-78).
Действительно, Елизавета вела себя, как нежная мать. Зимой 1744/45 года Петр Федорович внезапно слег с оспой в Хотилове на пути из Москвы в Петербург. Его невесту - будущую великую княгиню, а потом императрицу Екатерину II, которая ехала вместе с женихом, - немедленно отправили в Петербург, подальше от заразы. Как вспоминает Екатерина, недалеко от Новгорода ей встретилась взволнованная Елизавета, которая, узнав о болезни племянника, немедленно поспешила в Хотилово.
Мы знаем, что государыня всегда была легка на подъем. Но удивительно другое: наследник престола болел тяжко, долго, и все два месяца его болезни императрица не отходила от его постели, а когда больной поправился, вернулась вместе с ним в Петербург. Для этой отчаянной и непоседливой прожигательницы жизни, занятой только развлечениями, да к тому же особы весьма брезгливой и мнительной, такое поведение совершенно необычно. Известно, что она приказывала увозить захворавших придворных немедленно, несмотря на их состояние, прочь из дворца, в их городские дома, чтобы, не дай Бог, не натрясли заразы! Прожить два месяца зимой в забытом Богом Хотиловском яме государыня могла только по одной причине - из страха за жизнь дорогого ей существа.
Очевидно, государыня испытывала любовь и жалость к этому несчастному 13-летнему мальчику. Когда его привезли из Киля и представили тетушке, то все были поражены, до чего же он худосочен, забит, не развит. В 1745 году Елизавета даже распорядилась, чтобы русский посланник в соседней с Голштинией Дании Н. А. Корф собрал сведения о детстве наследника русского престола. Сведения эти оказались неутешительными. Мальчик с ранних лет попал в руки своего воспитателя, упомянутого выше графа Брюммера. Худшего наставника для юного герцога трудно было и придумать: как пишет Штелин, он относился к мальчику «большею частию презрительно и деспотически», издевался над ним, бил его, привязывал за ногу к столу, заставлял стоять коленями на горохе, лишал ужина. Ненависть к Брюммеру Петр сохранил и в России - придворные видели, как великий князь в гневе чуть не заколол шпагой своего обер-гофмаршала, с которым у него постоянно происходили стычки и скандалы.
Отец мальчика, Карл-Фридрих - личность вполне ничтожная, - повлиял на сына только в одном смысле: приучил его с ранних лет к шагистике, муштре, которые буквально впитались в душу ребенка и - ирония судьбы! - стали отличительной чертой всех последующих Романовых, буквально терявших голову при виде плаца, вытянутых носков и ружейных приемов. Впрочем, в ту пору было принято поручать воспитание принцев простым офицерам, а то и солдатам, всю жизнь тянувшим армейскую лямку и, как казалось, знавшим секрет изготовления из хилых и изнеженных няньками принцев великих полководцев. Так что голштинские офицеры, по указанию герцога взявшие семилетнего Карла Петера Ульриха в оборот, учили его тому, что знали сами: уставу, ружейным приемам, маршировке, дисциплине, порядку. Вспомним, что точно так же, но только с пяти лет, определил в рекруты своего сына Фрица прусский король Фридрих-Вильгельм I.
Конечно, от наставников-офицеров нельзя было ожидать знания системы Аристотеля или Коперника, а их вкусы, шутки и запросы отличались незатейливостью. Впрочем, любовь к военному делу, основанному на линейной тактике, требующей муштры, была присуща и Фридриху Великому. Но это не мешало ему быть образованным, остроумным человеком, выдающимся политиком. В истории будущего русского императора Петра III плац, лагерь, идеально ровный строй приобрели совершенно иное, гипертрофированное значение. В страсти к внешней стороне военного дела проявлялась не сила, а слабость этого человека; погружаясь в эту страсть, он спасался тем самым от внешнего - такого неприятного, сложного, враждебного мира обычной жизни. Но это наступило потом, уже в России, основы же такого мировосприятия были заложены в детстве, когда грохот барабанов на улице или развод на дворе замка прерывали любые занятия принца, и мальчик бросался к окну, чтобы насладиться видом марширующих солдат.