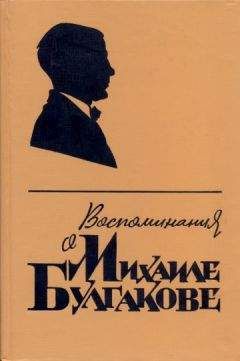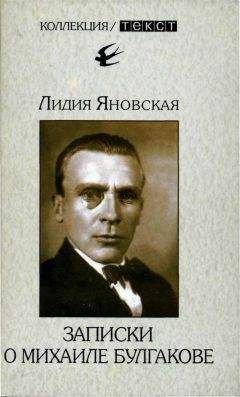Конец нового письма, писавшегося год спустя, связан с этим невыполненным обещанием — и надеждой договорить невысказанное в телефонном разговоре: «…заканчивая письмо, хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское мое молчание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам. Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти. Вы сказали: «Может быть, Вам действительно нужно ехать за границу?»
Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссером в театрах СССР».
Совпадает ли полностью текст письма, написанного 30 мая 1931 года и отправленного адресату, с тем, который мы цитируем по авторским машинописным копиям, сохранившимся в архиве Булгакова, или был еще какой-то окончательный вариант? Ответить на этот вопрос можно будет лишь тогда, когда письма Булгакова 1930 и 1931 года будут обнаружены в архиве Сталина и подвергнуты текстологическому анализу. Но так или иначе, в архиве Булгакова хранится его собственный текст, отразивший его собственные размышления и надежды. Они помогают нам понять, что новая пьеса Булгакова рождалась в кругу нескольких сильнейших эмоций, владевших им летом 1931 года.
Это было мучительное ощущение недоговоренности, оставшееся от разговора. Это было и ожидание ответа на письмо, с которым связывались теперь все его надежды, а также, возможно, и ожидание обещанной еще в прошлом году встречи с адресатом. И вместе с тем постепенно нарастало понимание того факта, с которым он внутренне никак не мог примириться, — что ни того, ни другого уже не будет.
29 июня 1931 г. Булгаков пишет письмо В. В. Вересаеву, к которому относился с особым доверием, и жалуется ему на тяжелое душевное состояние. Описывая тяжелый для него год, он заключал: «Кончилось все это серьезно: болен я стал, Викентий Викентьевич». И признавался, что закрадывается уже «ядовитая мысль — уж не совершил ли я в самом деле свой круг?». В этом же письме — первое упоминание о новой пьесе: «А тут чудо из Ленинграда — один театр мне пьесу заказал. Делаю последние усилия встать на ноги и показать, что фантазия не иссякла. А может, иссякла. Но какая тема дана, Викентий Викентьевич! Хочется безумно Вам рассказать! Когда можно к Вам прийти?» В следующем письме (25 июля) он мучительно сожалеет о том, что «не состоялся» его «разговор с генсеком».
«Милый и дорогой Михаил Афанасьевич! — писал Вересаев 17 июля из Звенигорода. — Вчера приехал из Москвы, где пробыл два дня и где нашел Ваше письмо от 29/VI <…>. То, что Вы пишете, очень интересно, и мне жаль, что нам не удалось повидаться». 5 июля (?) 1931 года Булгаков заключает договор с ленинградским Госнардомом на пьесу «на тему о будущей войне» — с обязательством сдать ее не позднее 1 ноября 1931 года, а 8 июля — аналогичный договор с Театром им. Вахтангова.
Можно предполагать, что по крайней мере однажды, в середине 1920-х годов, Булгаков уже подходил к подобному замыслу — и даже брал аванс под обещание составить конспект романа «Планета-победительница»… Судя по названию, предполагался приключенческий роман, подобный, скажем, роману Вс. Иванова и В. Шкловского «Иприт» (1925), описывающему будущую газовую войну Советской России с европейской коалицией, или уэллсовским романам, изображавшим межпланетные войны.
Еще в середине июня он получил телеграмму от Натальи Алексеевны Венкстерн, с которой в последние годы установились близкие дружеские отношения, — она приглашала Булгаковых в Зубцов (место слияния Волги с Вазузой) на летний отдых. 1 июля он писал ей: «постараюсь в июле, может быть, в 10-х числах выбраться в Зубцов… План мой: сидеть во флигеле одному и писать, наслаждаясь высокой литературной беседой с Вами. Вне писания буду вести голый образ жизни: халат, туфли, спать, есть».
В это время в Москве был Е. И. Замятин, приехавший хлопотать об отъезде за границу. К тому времени его уже связывали с Булгаковым дружеские отношения, и 9 июля он писал в Ленинград жене, приглашая ее в Москву: «устроить жилье нетрудно, хотя бы у Мих<аила> Аф<анасьевича> — он сейчас один или у вахтанговцев». Думаем, что Замятин был одним из тех немногих, с кем обсуждал Булгаков в то лето и судьбу своего недавнего письма, и замысел новой пьесы. Сопоставление этой пьесы с драматургией Замятина — особая и интересная тема.
9 июля Булгаков телеграфирует Н. А. Венкстерн: «Приеду двенадцатого». В членском билете ВСЕРАБИСа, сохранившемся в архиве писателя, штамп, поставленный в г. Зубцове, датирован 14 июля.
Вполне возможно, что именно приехав на Волгу, и начал он вплотную работать над пьесой. В рукописях пьесы первая авторская дата — 8 августа 1931.
В разгар лета он пробыл на Волге не более двенадцати дней — в состоянии глубоко угнетенном и мрачном. Его просьба, обращенная к Сталину, осталась без ответа. В июльских письмах к Вересаеву он говорил о неуспехе своего письма, о том, что для того, чтобы описать свою ситуацию, ему нужно было бы исписать сорок страниц или же посылать телеграмму: «Погибаю в нервном переутомлении. Смените мои впечатления на три месяца. Вернусь!» («Знамя», 1988, № 1, с. 165). Он не мог смириться с тем, что его словам о возвращении, по-видимому, не верили, и просил у Вересаева совета в ситуации, которая была для него почти столь же тягостной, как год назад, когда он писал письма Правительству. 12 августа 1931 г. Вересаев отвечал ему: «Дорогой Михаил Афанасьевич! Получил Ваше письмо — и не из слов Ваших, а из самого письма почувствовал, как Вы тяжко больны и как у Вас все смято в душе. — Совет? Я не понял, по поводу чего совет. Но продолжаю думать, что надежда на загр<аничный> отпуск — надежда совершенно безумная. Да, вот именно — «кто поверит?». Из двух теорий я больше присоединяюсь ко второй. И думаю, рассуждение там такое: «писал, что погибает в нужде, что готов быть даже театральным плотником, ну, вот, устроили, получает чуть ли не партмаксимум. Ну, а насчет всего остального — извините!»
Трудно человеку в Вашем положении давать советы, и все-таки мне настоятельно хочется Вам дать один. Скажем, объявили человеку: «у вас не может быть детей…»
И далее, скорее как врач врачу, чем как писатель писателю, Вересаев пояснял, что, с его точки зрения, «писательская потребность для художника» не слабее физиологических: «И разве может он, на изломе всего своего существа, сказать себе: «меня не печатают — бросаю писать». Это глубокая ошибка». Он уверял Булгакова: «для меня совершенно несомненно, что одна из причин вашей тяжелой душевной угнетенности — в этом воздержании от писания».
4 августа В. Е. Вольф пишет Булгакову, что 20-го вернется в Ленинград, сговорится о его приезде «и будем запоем читать пьесу».