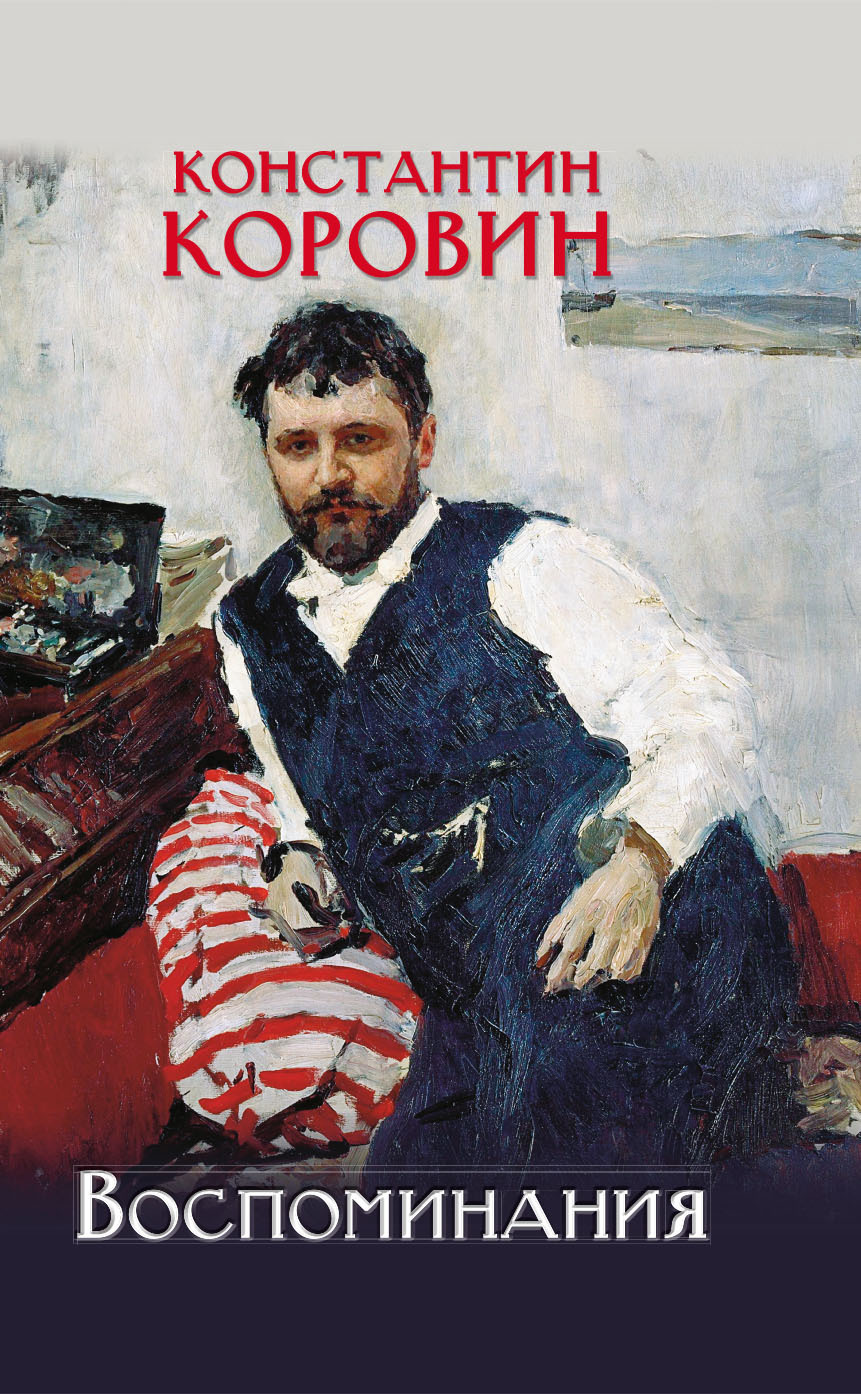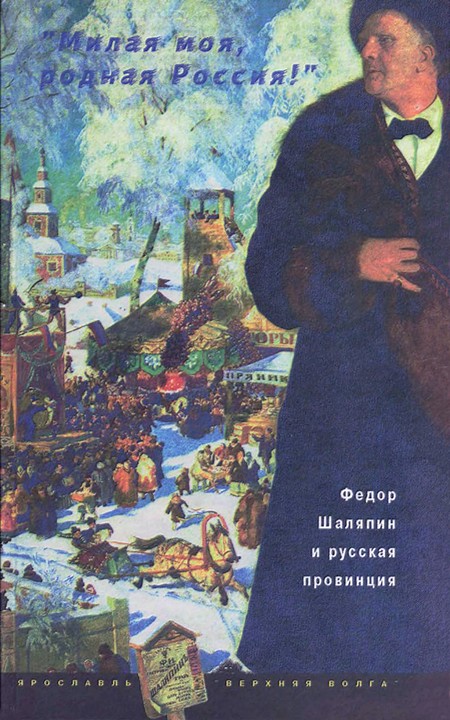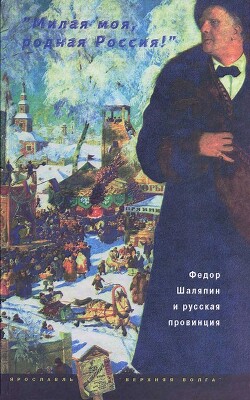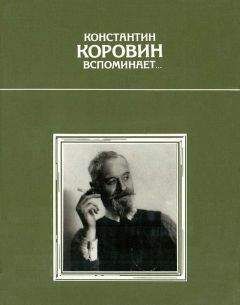полынью. Я, брат, в крапиву попал, ноги обожгло. Я – босиком.
– Зачем же босиком?
– Да, черт. Пошел тихонько бутылку доставать, а у тебя там еж бегает. Я испугался: урчит. Злой.
– Куда там злой, он тебя напугался – ручной.
Приятель залез на сено.
– Знаешь что? – сказал он мне. – Жена завтра хочет ехать. Я, говорит, не могут больше. Скука, говорит, и комары. Что тебе, говорит, здесь нравится? Что? На даче по крайности музыка, круг, знакомые, танцы, а здесь – просто ссылка, ссылка… Вот и поди. Что на это ответишь? Потом, говорит, эта птица противная, как дура, всю ночь кричит. Какой, говорит, это соловей! Да здесь и соловьев-то нет.
– Ты бы ей сказал, что в конце июля соловьи уже не поют. Это коростель трещит.
– Вот еще, – продолжал Вася, – на даче все друг с другом знакомы. Знакомства она любит! Только бы знакомиться. Она знакомится и говорит: муж мой в Нижнем только что окончил постройку собора. А я никогда никаких соборов не строил. Понимаешь? Я и говорю ей дома: «Что ты врешь?» А она: «Как глупо! – говорит. – Будешь иметь заказы, если не соврать. Все, – говорит, – врут и имеют заказы.» Опять же верно. Она права. Но не нравится мне все это. Противно.
Мы проснулись поздно. Солнце заглядывало во все щели сарая, собаки радостно вертели хвостами.
Солнце розовыми лучами освещало березы, сараи и мой дом на пригорке. Длинные тени далеко ложились от дерев и от нас на росистый луг сада.
Васина супруга еще почивала. На террасе мы принялись без нее за молоко с черным хлебом. Но скоро появилась и она с нарядной большой брошью, наколотой у самого подбородка.
– Всю ночь мне спать не дала эта птица. Отчего вы ее не застрелите? Как орет и, должно быть, думает, что хорошо. Прошу вас, застрелите… Я уезжаю.
Сборы к отъезду были долгие. На кухне и крыльце слышались голоса. Какое-то беспокойство охватило всех. Бегали в деревню и обратно. Все что-то приносили. Сестра моя с серьезным видом носила банки с вареньем, корзины с ягодами. У крыльца стояли подводы, кучера хлопали кнутами по сапогам и глядели вниз, раскуривая махорку.
Я чувствовал себя лишним. Супруга приятеля и сестра моя проходили мимо меня как-то особенно важно, как пароходы, – вот-вот загудят в трубу. Подводы нагружались корзинами, кульками, мешками, куры кричали, собаки лаяли. По лугу перед домом бегали женщины и мальчишки и ловили резаных кур и индюшек, которые умеют и без голов летать.
Наконец вбежала в комнату сестра:
– Ты перепортил все банки для варенья. Скипидаром пахнут, кисти в них ставишь.
Я молчал и чувствовал себя скверно. А Вася стоял в саду в сторонке, на нем было дождевое пальто, и смотрел он вдаль. Мне хотелось сказать ему: «Какая хорошая даль!» – но я чего-то опасался. Точно виноват был в чем. Крикнул ему в окно: «Иди, иди сюда!» Он, не оборачиваясь, махнул рукой, потом вдруг лег на траву.
Ко мне вошли в комнату и он и она.
– Ну, прощайте, – сказала супруга ласково. – Желаю вам наслаждаться здесь. А ты, может быть, остаться хочешь? – обратилась она к мужу.
– Да, я бы денек-два побыл еще, – ответил он робко. – Уж очень вдали там елки хороши. Вон там! Я бы пошел посмотреть.
Покраснев, она сказала быстро:
– Ну, желаю вам смотреть на елку, а я еду.
Подводы тронулись. Она не обернулась. За воротами мелькнула ее синяя шляпа с розовым шарфом. Сестра шла от ворот и тоже не взглянула на нас. Прошла молча к себе в комнату.
– Уехала, – сказал приятель.
И вдруг начал с диким топотом прыгать на одном месте, выходило вроде какого-то танца.
– Что ты, что с тобой, чему радуешься?
Но он продолжал прыгать все быстрей, притоптывая и выкрикивая:
– Гоню, выгоняю. Выдыбай, выдыбай!
И вдруг стал как вкопанный.
Я подошел к нему: в голубых глазах Васи светились слезы.
Василий Харитонович Белов, маляр в моей декоративной мастерской при императорских театрах, человек был особенный, серьезный. Лицо в веснушках. Смолоду был у меня, служил в солдатах и опять вернулся ко мне. Василий Белов был колорист – составлял тона красок, и я ценил в нем эту способность.
В Крыму у меня был дом в Гурзуфе, хороший дом, большой, на самом берегу моря. И много друзей приезжало ко мне. И вот на отпуск поехал со мной Василий Белов. Очень ему хотелось увидать, где это море и что за море такое есть. Хороший дом был у меня в Гурзуфе: сад, кипарисы, персики, груши, виноградные лозы обвивали дом и самое синее море около шумит. Краса кругом. «Брега веселые Салгира». Приехали. Но Василий Белов ходит, смотрит, что-то невеселый.
– Ну, что, говорю, Василий Харитоныч, море как тебе, нравится?
– Ничего… – отвечает Василий, – только чего в ем.
– То есть как это? – удивился я. – Не нравится тебе?
– Так ведь што, – отвечает он задумчиво, – а какой толк в ем, нешто это вода?
– А что же? – удивился я.
– Э-эх… вздохнул Василий, – ну и вода. Соль одна, чего в ней. Вот у нас на Нерле – вода. На покосе устанешь, жарко летом, прямо пойдешь к речке, ляжешь на брюхо на травку и пьешь. Вот это вода. Малина! А это чего, тошнота одна.
– Василий, – говорю, – посмотри какая красота кругом. Горы, зелень.
– Чего горы! – говорит Василий. – За папиросами в лавочку идешь – то вниз, то кверху. Чего это? Колдобина на колдобине… Нешто это земля? Камни накорежены туды-сюды. А у нас-то, эх… р-о-овно, вольно. А тут чисто в яме живут. Море. Чего в ем есть? Рыба – на рыбину не похожа, камбала, морда у ней на одну сторону сворочена, хвоста нет, чешуи нет. Сад хорош, а антоновки нету, лесу нету, грибов нету…
– Да что ты, Василий, – здесь же персики и виноград растут. Ведь это лучше.
– Кружовнику нет… – сказал задумчиво Василий.
– Как нет? Виноград же лучше крыжовника!
– Ну, што вы. Н-е-ет, у нас кружовник, который красный, который желтый. Кружовник лучше.
– Да ты что, Василий Харитоныч, нарочно, что ли, говоришь?
– Чего нарошно, верно говорю. Татарам здесь жить ничего еще, чего у них утром – выйдет и кричит ла-ла-ла-ла. А у нас у Спаса Вепрева выйдет дьякон отец Василий да «многий лета» ахнет – ну, голос! Паникадило гаснет! А это што – море… а пить нельзя. Купаться тоже пошел – как меня в морду хлестанет – волна, значит, – прямо захлебнулся и колени ушиб.