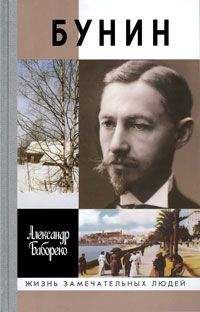«…Смерть для души высокой есть лишь исход из темницы <…> она устрашает лишь тех, кои все счастье свое полагают в бедном земном мире» [1107].
Четвертого июля 1953 года Бунин, по словам жены, «чудесно прочитал Лермонтова „Выхожу один я на дорогу“, восхищаясь многими строками»; сказал: «И после таких поэтов — Есенин, Маяковский и т. д.» [1108].
Адамович вспоминает: «Помню его сначала в кресле, облаченного в теплый, широкий халат, еще веселого, говорливого, старающегося быть таким, как прежде, — хотя с первого взгляда было ясно и с каждым днем становилось яснее, что он уже далеко не тот и таким, как прежде, никогда не будет. Помню последний год или полтора: войдешь к нему, Иван Алексеевич лежит в постели, мертвенно бледный, как-то неестественно прямой, с закрытыми глазами, ничего не слыша, — пока Вера Николаевна нарочито громким, бодрым голосом не назовет имя гостя.
— Ян, к тебе такой-то… Ты что, спишь?
Бунин слабо поднимал руку, силился улыбнуться.
— А, это вы… садитесь, пожалуйста. Спасибо, что не забываете.
Было бы с моей стороны нелепо утверждать, что он радовался именно моим посещениям. Но, по-видимому, — и об этом мне не раз говорила Вера Николаевна, — я принадлежал к числу тех людей, разговор с которыми отвлекал его от тяжелых предсмертных мыслей. Боялся ли он смерти? Если до некоторой степени и боялся, — в чем я не уверен, — то страх этот был в его сознании заслонен другим чувством: острой тоской, глубокой скорбью об исчезновении жизни. К жизни он был страстно привязан, не мог примириться с мыслью, что ей настал конец. Никогда я с ним об этом, конечно, не говорил».
Бунин знал, что умирает, «представлял себе, — и даже иногда изображал, — как будет лежать в гробу, каков он будет в своем „смертном безобразии“ (его подлинные слова)» [1109].
Доктор В. М. Зёрнов пишет, что Иван Алексеевич «страдал эмфиземой и склерозом легких и прогрессивным ослаблением сердечной деятельности <…> Но, несмотря на свои болезни, на слабость, Иван Алексеевич до последних дней своей жизни сохранил свой острый ум, память, резкость и меткость суждений» [1110].
Оставались недолгие дни. Земной круг пройден со славой, достойно. В стихах писал за три месяца до кончины:
ВЕНКИ
Был праздник в честь мою, и был увенчан я
Венком лавровым, остролистым:
Он мне студил чело, холодный, как змея,
В чертоге знойном, золотистом.
Жду нового венка — и помню, что сплетен
Из мирта темного он будет:
В чертоге гробовом, где вечный мрак и сон,
Он навсегда чело мое остудит[1111].
<1953>
Восьмого ноября 1953 года Бунин скончался. Вера Николаевна писала А. Седых 13 ноября 1953 года:
«Дорогой Яшенька,
Спасибо за письмо, за сочувствие, за статью, которая всем, кто читал ее, понравилась, спасибо за присылку вырезок. Не напечатаете ли вы от моего имени благодарность всем учреждениям, напечатавшим свое сочувствие моему вечному горю. Я очень тронута и от всего сердца благодарю. Кстати скажу, что все, с кем в эти тяжелые дни я общалась, проявили такую любовь и заботу ко мне, что я до гроба донесу восхищенную к ним благодарность. Каждый делал, что мог, и все лучшее в своей душе проявлял ко мне. Вообще атмосфера всех этих пяти дней была необыкновенно легкая. Не удивляйтесь, я думаю потому, что все было насыщено одним чувством скорбной любви, я чувствовала, что все в горе, а не только жалеют меня и сочувствуют мне. Трогала меня и та любовь, которая относилась к Яну, как к человеку и писателю, а главное, та простота, которая всеми чувствовалась, никакой не было фальши. Ко мне приходили и небогатые люди, приносили деньги, моя помощница, в которой Иван Алексеевич души не чаял, принесла мне пятьдесят тысяч, — она копит на памятник своему мужу, я уже не говорю о том, что кто только не убирал комнаты, не подметал полы, не стряпал, я, понятно, была не в состоянии что-либо делать. И, несмотря на горе, в моей душе останется навсегда чувство несказанной радости от того, что я увидала от людей.
А теперь сообщу вам и „читателям“ о последнем месяце жизни дорогого ушедшего.
В середине октября он заболел воспалением левого легкого. Конечно, пенисиллин и все прочее, и температура скоро стала нормальной, но после этого он все никак не мог поправиться, — очень был слаб и совсем не покидал постели. Доктор Зёрнов ездил через день, а во время болезни ежедневно. В конце октября был консилиум с доктором Бенсодом, И. А. боялся рака, тот его успокоил, и последний раз Ян вышел в столовую. После был сделан анализ крови у доктора Болотова, который меня очень испугал — 50 процентов гемоглобина и 2 600 000 красных шариков. От переливания крови он отказался категорически: „Не хочу чужой крови…“ Стали энергично лечить. Но тут опять беда: не принимает лекарств и ест очень мало. Доктор Зёрнов ездил ежедневно, делал впрыскивания эпатроля и камфары, уговаривал есть и принимать лекарства. И последнюю неделю он более или менее их принимал, но ел мало, хотя все готовилось, что он любил. Голова его была прежняя…
В последнюю субботу, как всегда утром, был Зёрнов, впрыснул камфару и эпатроль и сказал, что он говорил с профессором Мукеном, который согласился приехать в понедельник без четверти девять. Проф. Мукен большая знаменитость, и три раза он приезжал уже к И. А., в прежние годы, когда он тяжело заболевал.
Это была суббота, день, когда я отлучалась из дома на три часа, уезжая в клинику к Л. Ф. Зурову. Обычно дома оставалась Л. А. Махина, наш друг и помощница, но на этот раз я попросила А. В. Бахраха прийти к нам в мое отсутствие и посидеть или с Яном, или рядом в столовой, если он его не примет, и в случае надобности позвонить Зёрнову. Из клиники я по телефону справлялась, как чувствует себя И. А. Л. А. Махина сказала, что Бахрах у него, но прибавила: „Возвращайтесь скорей…“ Я поднялась в комнату Л. Ф. и сообщила, что должна уже покинуть его, так как Л. А. советует торопиться. Он взволновался и стал говорить, чтобы я скорей ехала. К слову сказать, он поправляется, и я надеюсь, что через несколько недель он будет дома.
Вернувшись, я не застала Бахраха, — у него было какое-то дело в 5 ч. И. А. сидел. Я помогла ему лечь. Спросила, завтракал ли он? Оказалось, немного не доел телячьей печенки с пюре. Скоро он попросил, чтобы я позвонила Зёрнову и попросила его приехать опять, он должен был приехать на другой день утром. Я сосчитала пульс — около ста и как ниточка. Позвонила Зёрнову, он обещал приехать. Дала камфары. Уговаривала пообедать, но от еды, даже от груши, он отказался.