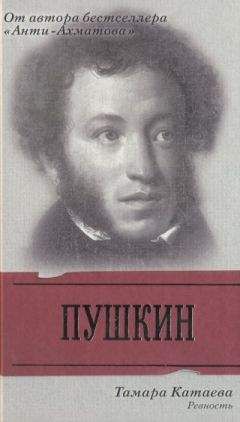Ревность Пастернака – он не ревновал и к Копернику. Ревновал к советской карательной системе – какой-то мордовский «Ночной портье». «Наверное, соперничество человека никогда в жизни не могло мне казаться таким угрожающим и опасным, чтобы вызывать ревность в ее самой острой и сосущей форме. Но я часто, и в самой молодости, ревновал женщину к прошлому или к болезни, или к угрозе смерти или отъезда, к силам далеким и неопределенным. Так я ревную ее сейчас к власти неволи и неизвестности, сменившей прикосновение моей руки или мой голос».
Там же. Стр. 332.
В романе с Ольгой – кого он мог счесть равным соперником? Угроза смерти, отъезд, лагерь – вот это было крупнее его, это бросало ему вызов. Сама Ольга такого напряжения не содержала.
Ревновал Зинаиду Николаевну к какому-то давно прошедшему прошлому – это тоже не отдельно стоящая ревность, а часть, совершенно необходимая, его любви.
У отцов-братьев все проще. Да, они хотят пристроить дочерей замуж. Не хочешь жениться – к барьеру (может, разве что с небольшим предлогом – девушка там забеременела или письмо ее кому показал), на этом роль заканчивается. Матери дочерей пристраивают вернее, настойчивее. Сюжет один – и Вера Набокова, и Ольга Ваксель в семействе Мандельштамов, и мать Ивинской. Ольга Всеволодовна называет этот феномен «святым материнским чувством», хотя матерями движут какие-то врожденные тяжелые и темные чувства, дикие инстинкты, не подлежащие умилению в зверях и требующие обуздания в людях.
Природа не свята. Она неисправима, это так, но святость – это то, что стоит НАД природой. За это нас называют венцом творения (мы сами себя), а не за то, что мы можем одним пролетом взгляда определить ступеньку социальной лестницы, на которую нам по силам, сбросив в пропасть предыдущую стоялицу, встать самим или усадить наших дочерей.
«В середине января 1925 года Мандельштам встретил на улице и привел ко мне Ольгу Ваксель, которую знал еще девочкой по Коктебелю и когда-то по просьбе матери навестил в институте. Ольга стала ежедневно приходить к нам, все время жаловалась на мать, отчаянно целовала меня – институтские замашки, думала я, – и из-под моего носа уводила Мандельштама. А он вдруг перестал глядеть на меня, не приближался, не разговаривал ни о чем, кроме текущих дел, сочинял стихи, но мне их не показывал. В начале этой заварухи я растерялась. Избалованная, я не верила своим глазам. Обычная ошибка женщины – ведь вчера он минуты не мог обойтись без меня, что же произошло!.. Ольга прилагала все усилия, чтобы я скорее все поняла и стала на дыбы. Она при мне устраивала сцены Мандельштаму, громко рыдала, чего-то требовала, обвиняла его в нерешительности и трусости, настаивала на решении: пора решать – долго ли еще так будет?.. Все это началось почти сразу. Мандельштам был по-настоящему увлечен и ничего вокруг себя не видел. Это было единственное его увлечение за всю нашу совместную жизнь, но тогда я узнала, что такое разрыв. Ольга добивалась разрыва <… > Ее бросил муж, и она с сыном целиком зависела от матери и отчима. <… > всем заправляла мать, властная и энергичная женщина, и делами дочери занималась тоже она. Она вызывала к себе Мандельштама и являлась к нам для объяснений, при мне уточняя и формулируя требования дочери. Она настаивала, чтобы Мандельштам „спас Ольгу“, и для этого немедленно увез ее в Крым – „там она к вам привыкнет и все будет хорошо“… Это говорилось при мне, и Мандельштам клялся, что сделает все, как требует Ольга. Он ждал большой получки из Госиздата и к весне собирался отправить меня в Крым. Об этом Ольга узнала в первый же свой приход и сказала, что тоже хочет на юг, и я ей тогда предложила ехать вместе. Поэтому однажды, когда мать говорила о „спасении“ Ольги, я вмешалась в разговор и сказала, что еду весной в Ялту и предлагаю Ольге ехать со мной. (Мать называла ее Лютиком, простым желтым цветочком.) Вот тут-то мать Ольги огрела меня по всем правилам. Искоса взглянув на меня, она заявила, что я для нее чужой человек, а она разговаривает о своих семейных делах со старым другом – Мандельштамом. Это была холодная петербургская наглость, произнесенная сквозь зубы. Я не представляла себе, что настоящие светские дамы (она была фрейлиной при дворе) так открыто устраивают дела своих дочерей. Для матери после катастрофического падения ее круга Мандельштам представлялся, вероятно, выходом, если не постоянным, то хоть временным. По нашей кукольной гарсо-ньерке она, я думаю, считала Мандельштама лучшим добытчиком, чем он был на самом деле».
МАНДЕЛЬШТАМ Н.Я. Вторая книга. Стр. 173—174.
«В чувствах к Набокову Ирину с самого начала поддерживала ее мать. „Если он тебя любит, значит, пусть не сразу, но ты сумеешь увести его от нее“ (ШИФФ С. Вера. Миссис Владимир Набоков. Стр. 124). „Подозрения <…> подтвердились до мельчайших подробностей в анонимном письме на четырех страницах <… > Вера была убеждена, что письмо послано матерью Ирины и, вероятно, для того, чтобы ускорить распад семьи“ (Там же. Стр. 118). „Мадам Кокошкина была не так очарована Владимиром, как его дочь. Эта опытная дама считала Набокова блестящим писателем <…>, однако человеком ненадежным“ (Там же.
Стр. 119).
«Слезы струились по щекам Владимира, когда он признавался ее матери, что не может без Ирины жить» (Там же. Стр. 120). «Мать Ирины <этому ничуть не удивилась, она> как раз предсказывала, что Вера станет „шантажировать мужа и не отпустит его“». «По описаниям Владимира, в семье творилось такое, что он боялся, как бы для него это не кончилось сумасшедшим домом. Вера впоследствии яростно отрицала, что у них когда-либо случались скандалы. Она готова была поклясться, что сцен – о которых с сожалением пишет муж и которые Ирина и ее мать старательно записывали с его слов в дневники – вовсе не случалось» (Там же.
Стр. 123).
Чтоб не скучать, Вера училась у Владимира ремеслу. У него был свой бизнес, у нее – свой: тонко и скрупулезно приводила видимость их жизни в соответствие с ее представлениями, какой она должна была быть.
«Не хочу сказать ничего плохого о маме, но и она тут была очень виновата. То она устраивала какие-то глупые сцены Б.Л., например, звонила, что я заболела из-за него, когда у меня был простой грипп, то возмущалась его жестокосердием, когда он два или три дня не мог прийти. „Я люблю вашу дочь больше жизни, Мария Николаевна, – говорил Б.Л. маме, – но не ожидайте, что внешне наша жизнь вдруг переменится“. Конечно, мамой руководило святое материнское чувство, ей хотелось для меня настоящего счастья, как она его понимала. Ей казалось, что это не дело, когда он приходит ко мне как муж, а потом уходит и может два дня не приходить».