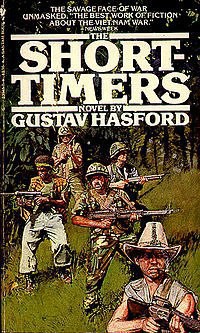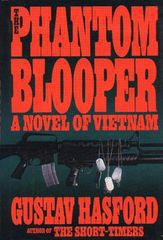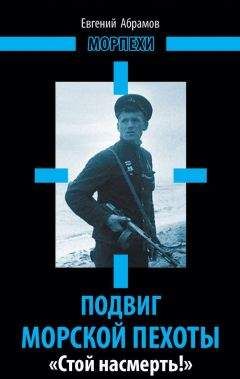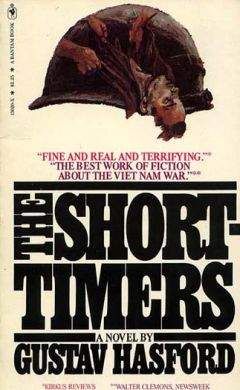Лачуга под нами расположена в зоне свободного огня – по ней можно стрелять кому угодно и по какой угодно причине. Мы наблюдаем за тем, как крестьянин бежит по мелкой воде. Крестьянин знает одно – его семье нужен рис для еды. Крестьянин знает одно – пули разрывают его тело.
Он падает, и бортовой пулеметчик хихикает.
Медицинский вертолет садится в посадочной зоне возле шоссе номер 1, в миле к югу от Хюэ. Посадочная зона беспорядочно усыпана ходячими ранеными, лежачими и похоронными мешками. Мы со Стропилой не успеваем еще покинуть посадочную зону, а наш вертолет уже успевает загрузиться ранеными и снова поднимается в воздух, отправляясь обратно в Фу-Бай.
Сидим перед разбомбленной бензоколонкой, ждем какой-нибудь лихой колонны. Проходит несколько часов. Наступает полдень. Я снимаю бронежилет. Вытаскиваю старую, рваную бойскаутскую рубашку из северовьетнамского рюкзака. Напяливаю бойскаутскую рубашку, чтобы солнце не спалило тело до самых костей. На потрепанном воротнике красуются капральские шевроны, которые уже настолько просолились, что черная эмаль стерлась, и проглядывает латунь. Над правым нагрудным карманом пришит матерчатый прямоугольник, на котором написано: «1-я дивизия морской пехоты, КОРРЕСПОНДЕНТ». И по-вьетнамски: «BAO CHI».
Сидя на изрешеченной пулями желтой устрице с надписью «SHELL OIL», мы попиваем Коку по цене пять долларов за бутылку. У мамасаны, которая продала нам эту Коку, на голове надета коническая белая шляпа. Каждый раз, когда мы что-нибудь говорим, она кланяется. Она щебечет и стрекочет как старая черная птица. Улыбается нам, обнажая черные зубы. Она очень гордится тем, что зубы у нее такие. Такие черные зубы, как у нее, получаются только если всю жизнь бетель жевать. Мы не понимаем ни слова из ее сорочьего стрекотанья, но ненависть, отпечатанная в застывшей на ее лице улыбке, ясно дает понять: «Пусть эти американцы и мудаки, но уж больно они богатые».
Ходит известная байка о том, что старые Виктор-Чарлевские мамасаны торгуют Кокой, в которую подсыпают молотое стекло. Пьем и обсуждаем, правда это или нет.
Два «Дастера», легких танка со спаренными 40-миллиметровыми пушками, со скрежетом проезжают мимо. Люди в «Дастерах» игнорируют наши поднятые вверх пальцы.
Часом позже "Майти Майт [25]" пролетает мимо на скорости восемьдесят миль в час – это максимум для такого маленького джипа. Опять не повезло.
Затем появляется колонна трехосных грузовиков, который катит за двумя танками M-48 «Паттон». Тридцать здоровенных машин с ревом проносятся мимо на полной скорости. Еще два танка «Паттон» едут замыкающими Чарли, обеспечивая тыловое охранение.
Первый танк увеличивает скорость, проезжая мимо нас.
Второй танк замедляет ход, взбрыкивает, дергается и останавливается. Из башни торчит белокурый командир танка, на котором нет ни шлема, ни рубашки. Он машет нам рукой, приглашая залезать. Мы напяливаем бронежилеты. Подбираем снаряжение и забрасываем его на танк. Потом мы со Стропилой вскарабкиваемся на плотный кусок горячего дрожащего металла.
Через люк под нашими ногами видим водителя. Его голова едва высовывается наружу, только чтобы дорогу было видно. Руки лежат на рычагах. Он дергает ручку эксцентрика, и танк наклоняется вперед, подпрыгивает, скрежещет, все быстрее и быстрее. Рев дизельного двигателя в восемьсот лошадиных сил нарастает, пока не превращается в ритмичный рокот механического зверя.
Мы со Стропилой откидываемся на горячую башню. Повисаем на длинной девяностомиллиметровой пушке как обезьяны. Так приятно ощущать прохладу набегающего воздуха после многих часов, проведенных во вьетнамской духовке с температурой под сто двадцать градусов. Пропитанные потом рубашки холодят тело. Мимо пролетают вьетнамские лачуги, прудики с белыми утками, круглые могилки с облупившейся и выцветшей краской, и бескрайние мерцающие полотна изумрудной воды, свежезасеянные рисом.
Прекрасный сегодня день. Я страшно рад, что я жив, невредим, и старый. Я по уши в дерьме, это так, но я жив. И мне сейчас не страшно. Поездка на танке доставляет мне захватывающее ощущение силы и благодушия. Кто посмеет стрелять в человека, едущего на тигре?
И танк великолепен. На длинном стволе выведено краской: «ЧЕРНЫЙ ФЛАГ – Истребляем домашних грызунов». На радиоантенне развевается оборванный флаг Конфедерации. Военные машины прекрасны, потому что конструкция их функциональна, и из-за того они настоящие, надежные и бесхитростные. Танк несет в себе красоту своих грубых линий. Это пятьдесят тонн брони, которые катятся вперед на гусеницах, похожих на стальные часовые браслеты. Этот танк защищает нас, катясь вперед и вперед без остановки, вызвякивая железом и оружием механические стихи.
Вдруг танк бросает влево. Нас со Стропилой сильно бьет о башню. Металл скрежещет о металл. Танк бьет в холмик на дороге, резко сворачивает вправо и с рывком останавливается, из-за чего нас бросает вперед. Мы со Стропилой цепляемся за пушку, и из меня вырывается: «Сукин сын...»
Белокурый командир танка вылезает из башенного люка и соскакивает с задней части танка.
Водила уводит танк на обочину.
В пятидесяти ярдах позади, вытянув ноги, валяется на спине буйвол. Буйвол ревет, бьет кривыми рогами. На палубе, посередине дороги, я замечаю крохотное тельце, лежащее лицом вниз.
Вьетнамское мирное население с щебетаньем выпархивает из придорожных лачуг, пялятся на дорогу, тычут пальцами. Вьетнамское мирное население собирается вокруг, чтобы посмотреть, как их американские спасители только что выдавили кишки из ребенка.
Белокурый командир танка общается с мирным вьетнамским населением по-французски. Затем, когда белокурый командир возвращается к танку, его преследует по пятам древний папасан. На глазах папасана слезы. Высохший старикан потрясает костлявыми кулачками и забрасывает спину командира танка азиатскими проклятьями. Мирное вьетнамское население замолкает. Очередной ребенок умер и, хоть все это и печально, и больно, они с этим смиряются.
Белокурый командир танка забирается на танк и засовывает ноги обратно в башенный люк. «Железный Человек, гребаный ты говнюк. Приказываю водить эту машину как танк, а не как спортивную тачку, мать твою. Идиот слепошарый, ты ту девчонку сбил. Черт, я же ее даже через эти триплексы хреновы разглядел. Она стояла на спине того буйвола...»
С напряженным лицом водитель оборачивается. «Да не видел я их, Шкипер. А они о чем думали, когда поперлись через дорогу прямо передо мной? Что, эти косоглазые не знают, что ли, что у танков преимущественное право на дороге?» Лицо водителя покрыто тонкой пленкой масла и пота, железо въелось в его душу, и он стал деталью этого танка, он потеет маслом, которым смазаны его шестеренки.
Белокурый командир танка говорит: «Лажанешься еще раз, Железный Человек, и точно в хряки отправишься».
Водитель разворачивает голову обратно. «Есть, сэр. Я буду следить за дорогой, лейтенант».
Стропила спрашивает с болезненными выражением лица: «Сэр, мы эту девочку насмерть задавили? Почему этот старик на Вас кричал?»
Белокурый командир танка вытаскивает из набедренного кармана зеленую шариковую ручку и зеленую записную книжечку. Что-то в ней записывает. «Дед этой девчонки? Да он вопил о том, как ему этот буйвол дорог. Хочет компенсацию получить. Хочет, чтоб мы ему за буйвола заплатили».
Стропила умолкает.
Белокурый командир танка вопит на Железного Человека: «Заводи, слепошарый ты сукин сын».
И танк катит дальше.
На окраине Хюэ, древней имперской столицы, мы замечаем первые признаки сражения – собор многовекового возраста, превращенный пулями в перечницу из каменных руин, с провалившейся вовнутрь крышей и стенами, насквозь пронзенными снарядами.
Въезжая в Хюэ, третий по величине город во Вьетнаме, испытываешь странное по своей новизне ощущение. Раньше наша война велась на рисовых полях, среди лачуг, где бамбуковая хижина – самое большое строение. А теперь, разглядывая последствия войны в большом вьетнамском городе, я снова чувствую себя салагой.