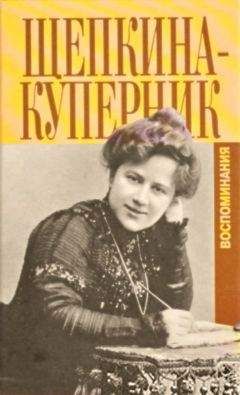А вот о статье «Подследственный арест»:
«…Эта статья была мною написана для «Киевского Голоса». 1-я часть была напечатана с некоторыми цензурными поправками. Когда же сдали цензору вторую часть, то она была задержана. В объяснение своего поступка цензор указал на то, что, так как теперь у нас (в Киеве или в России — неизвестно) после и по поводу 1 мая нового стиля — полоса арестов, то печатание таковой статьи представляется неудобным. Мои возражения, что статья относится одинаково ко всем прошедшим, настоящим и будущим арестам, — не помогли: равно как не помогло и предложение — прекратить аресты, чтобы можно было напечатать статью…»
У «начальства» — полиции и пр. отец, конечно, всегда был на особом счету. Обыски у него были делом обычным.
Помню один из рассказов моей мачехи, Натальи Николаевны. К ним пришли с обыском в отсутствие отца и, конечно, первым делом направились к письменному столу. «Я вся похолодела, — рассказывала Наташа, — я знала, что в среднем ящике лежат такие бумаги, что, если они попадут к жандармам в руки, — он погиб…» От нее потребовали ключи и стали вскрывать ящик за ящиком. С каждым ящиком кровь отливала у нее от лица к сердцу, она схватилась за стол, потому что ноги у нее подкашивались, и думала: «Вот… вот… сейчас…» И вдруг — какое-то чудо! Жандармы не заметили среднего ящика, помещавшегося в столе глубже остальных… и, просмотрев все ящики, кроме этого, — ушли в другие комнаты. А она так и осталась на месте, от волнения не в состоянии сдвинуться.
На все общественные события отец откликался всем своим существом. В 1902 году он писал мне:
«…У нас неладно. Студенты неудовлетворены своей конституцией. Идут сходки, забастовки, демонстрации… что-то из этого выйдет? Студенческие беспорядки, не прекращающиеся с тех пор, как я себя помню (я знаю их с 1858 года), имеют гораздо более глубокое и обширное значение, чем то думают: они — единственное проявление политической жизни громадного русского народа перед лицом того, что делает императорское правительство. Об этом можно исписать тома и наговорить горы…»
Дальше, по тому же поводу:
«…У нас в Киеве 2-го и 3 февраля были уличные манифестации с яркой политической окраской: много народу, студентов, рабочих и девушек собрались на Крещатик, распевая революционные песни, между прочим, «Марсельезу», и неся два флага: один — «Долой самодержавие», другой — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Политехник и студент, несшие эти флаги, были сильно смяты и избиты. Полицейский пристав — тоже, но все живы. Были, конечно, и казаки с нагайками, и много арестованных. Такие же толпы были на Владимирской, возле Университета и театра. 4 февраля был освистан приехавший из Петербурга товарищ министра народного просвещения Зенгер. Вчера закрыли Университет и Политехнический институт. Тяжелое время переживаем. Бог знает, что делается в Москве и в Петербурге. Газеты, конечно, молчат, и разве через 10–20 дней появится правительственное сообщение, в котором все будет переврано. А там пойдут тюрьмы, ссылки, может быть, военный суд… Трудны роды политической свободы в такой громадной, веками рабствовавшей стране, где нет ни традиции свободы, ни приемов добывания ее, ни людей, ни средств сплочения и соединения. Где тот лозунг, который бы соединил всех, где тот предводитель, за которым пошел бы народ, где, наконец, тот интерес, который бы двигал? Стенька Разин и Пугачев двинули Русь против рабства, за крест и за бороду. Теперь у нас рабство исчезло, но на его место встало лакейство, столь же забитое и вдобавок презираемое. Кресты есть — но Победоносцевские. И борода признана, ее носит «сам»… но она — парикмахерская. Интеллигенция, великодушно жертвуя собой за свободу, забыла про народ и им забыта. Народ забит, обессилен, ограблен и отдан на произвол всяких начальников, баскаков, урядников. Печать задавлена, земство уничтожено, грамота — церковно-приходская. Суд гласный и публичный сведен к нулю… и надо всем высится, как каменный обелиск, окруженный каменными сфинксами камарильи, — Николай, все и ничего — могущий, недоступный… да и если бы и был он доступен — так черт ли в нем?»
«…Ну, баста!» — заканчивает он это письмо, которое писал мне за границу: «Приезжай, однако, в эту бедную, дорогую, иссеченную, споенную и истекающую кровью лучших сыновей и дочерей своих — Россию»…
Да, несмотря ни на что, Россия была дорога отцу. Он пишет мне об этом, кратко и ярко, как всегда, после одного из своих путешествий:
«…У меня начала развиваться ностальгия: я, подобно Тургеневу, начал изнывать по «редьке, каше, квасу, бабе» и пр. Я оставил заграницу без сожаления и приехал домой с удовольствием. Хоть еврей — я страстно люблю «матушку Русь», я чувствую себя хорошо только здесь. Мерзость везде есть: но, конечно, ничего не может быть хуже чужой мерзости: тут она хоть своя, и знаешь, что хоть что-нибудь можешь сделать против нее».
И, действительно, он все время «что-нибудь делал против нее». Тут не мне бы, его дочери, а настоящему летописцу истории русской адвокатуры надо писать и говорить о том месте, которое занимал отец как политический защитник. Этому была отдана вся его жизнь. И сколько жертв его удивительное красноречие в свое время буквально чудом вырвало у смерти — пусть перечитается в «судной книге» его жизни. Его дела о ритуальных убийствах, о погромах, о «Пруте» и пр. заслуживают отдельного изучения. Писал он мне о них сдержанно, как вообще о себе. Но никогда он не отказывался от самого безнадежного политического процесса, многие из них вел безвозмездно, не знал ни отдыха, ни срока: сегодня Одесса, завтра Нижний, оттуда Петербург, оттуда Гомель, опять Одесса, Варшава, какое-нибудь «местечко»… Часто он по неделям не выходил из вагона, не знал, что такое ночлег в собственной кровати, и с добродушной усмешкой не без грусти цитировал: «То ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай… То ли дело, братцы, дома… Ну, пошел же, поезжай». Усугублялась трудность его поездок тем, что он болел болью своих подзащитных и всей кровью готов был спасать их. Он откликался на горести общественные с такой же силой, как на личные.
«…Я нахожусь в совершенно угнетенном душевном состоянии, — писал он, — благодаря кишиневскому погрому… Это нечто безобразное, ужасающее. И действия, и поведение властей до, во время и после погрома — неслыханные. Полиция, губернатор, следователи, прокуроры, министры, «сам» — всех под суд! Произвол, бесправие, ложь, подлость, все тут. Не знаю, успокоит ли меня лето в природе, но это все-таки, что может благотворно подействовать на душу. Вот уж именно — «все люди да люди — хоть бы черти попались!»