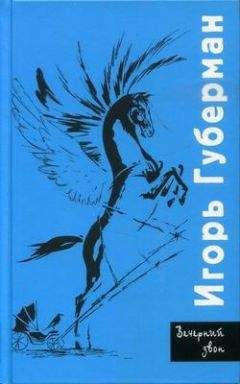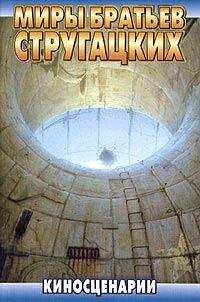Если чуть понятие расширить в смысле жанра негритянского труда, то я вступил на эту скользкую стезю еще на первом курсе института. Шел зачет по физкультуре, надо было на одних руках подняться по канату – метра три, не Бог весть что, но двум моим приятелям это оказалось не под силу. А физкультурный педагог не знал нас – подменял коллегу, так что смухлевать труда не представляло. Я сдал свое влезание одним из первых, обождал немного и пошел опять, назвав фамилию приятеля. Физрук кивнул мне подбородком на канат, я под него улегся – поднимались с пола – и немедля услыхал:
– Иди обратно и не суйся. За других чтобы сдавать, меняй трусы и майку.
Я конфузливо поднялся, а физрук добавил, вызвав общий хохот:
– И лицо.
Я бы забыл, конечно, этот первый опыт негритянства, но спустя лет восемь старший брат мой попросил, чтобы я сдал экзамен по математике за его приятеля, мучительно одолевавшего заочный политехнический институт. Я не мог не согласиться, а точнее, согласился с радостью, ибо немыслимый азарт авантюризма сотрясал и мучил в те года мою неустоявшуюся душу. Даже это мелкое мошенничество было мне целебно привлекательно. Только что, кстати, сел за то же самое в тюрьму Саша Гинзбург, но его так неумеренно жестоко покарала Лубянка – за три номера журнала «Синтаксис», открывшего эпоху Самиздата. Я о такой опасности не помышлял, ибо душой был чист, как дворник Герасим. Я вообще созрел изрядно поздно (если вообще созрел, в чем мои близкие довольно справедливо сомневаются).
На экзаменационную карточку была наклеена моя фотография, и даже печать на ней изобразил какой-то неизвестный мне умелец. Уровень в этом заочном институте был намного ниже нашего, а я когда-то математике учился с удовольствием, поэтому ответил очень бодро на вопросы и решил какую-то задачу (или уравнение, уже не помню). И преподаватель с равнодушным и незамысловатым лицом взял мою карточку и поставил мне четверку. Я удивленно глянул на него, и он мне сухо сообщил:
– Вам этой отметки хватит…
Чуть помедлил и глумливо добавил, глядя на меня и чуть косясь на карточку:
– …студент Иванов.
Я выскочил, благословляя этого безликого Песталоцци.
И еще лет десять утекло, и позвонила мне приятельница, Юна Вертман. Театральный режиссер она была, и помнят ее до сих пор ученики, ставшие весьма известными актерами. Сама она успела поставить очень немного, и не только потому, что рано умерла, но как-то плохо она вписывалась в мир советского театра, а водила дружбу с самыми предосудительными людьми. С ней у меня связана память об одном удивительном переживании – я отвлекусь от негритянства ненадолго, очень уж была уникальна та вечерняя ситуация в нашем доме.
Юна как-то позвонила мне: ей надо было где-нибудь погостевать какого-то заезжего приятеля, не сможем ли мы их принять сегодня вечером. Да разумеется, я встречу вас в метро, незамедлительно ответил я. И побежал в районную кулинарию: мы тогда по бедности кормили всех бифштексами оттуда. Многие ли нынче помнят эти жалкие котлеты из мясных обрезков? А под водку это была царская еда. Приятель Юны оказался только что выпущенным на свободу зэком, а сидел он вместе с Юликом Даниэлем, написал о лагере отменную книжку, я горел желанием порасспросить его подробней (с ним сидел и Сашка Гинзбург), но не получилось. Часом позже Юны позвонила с той же просьбой давняя моя подруга Люся – к ней тоже приехал какой-то киношник, и ей сегодня вечером с ним было некуда податься. Итак, нас оказалось шестеро, о чем-то мы трепались, выпивая, и вдруг выяснилось, что оба этих мужика – из города Свердловска в молодости. Дальше в разговоре обозначилась еще какая-то деталь, и вдруг киношник вежливо спросил, не тот ли это самый человек, который некогда был арестован за Самиздат и ухитрился смыться прямо из милицейского воронка. Гость Юны жутко оживился и подтвердил: да, да, менты закрыли дверь как-то неплотно, и он ухитрился выброситься на полном ходу, догадавшись даже взять в руки запасное колесо для умягчения удара о дорогу. И сбежал. Не очень-то надолго, но сбежал.
– А я тогда был в комсомольской дружине и с ментами вместе вас везде искал, – радостно сообщил киношник. Мы оцепенели. Очевидной была неминуемая враждебность жертвы и преследователя, это не вязалось с дружеской попойкой, а что делать, я не знал. Но эти оба вмиг заговорили – и с настолько искренней симпатией друг к другу, что мы только переглядывались в молчаливом изумлении от этого скрещения советских судеб.
Но вернусь к негритянству. Юна мне звонила с просьбой. У нее была уже на выходе (вот-вот защита) кандидатская диссертация, но выяснилось вдруг, что ей не хватает одной публикации. Их полагалось некое число, в которое засчитывалась даже статья в научно-популярном журнале. А ты ведь, Гарька, пишешь всякую херню в эти журналы, горестно жужжала Юна, ты там знаешь всех, мне срочно нужна статья об актере Михаиле Чехове, я в тебя верю, ты ее немедленно накропаешь, у меня нет ни минуты времени, выручай.
– Но, Юна, – в изумлении ответил я, – дай Бог мне в жизни столько неприятностей, сколько я знаю хоть чего-нибудь о Михаиле Чехове!
– А я тебе прямо сейчас все расскажу, а ты это обернешь во что-нибудь научно-популярное, – обрадовалась Юна.
И с немыслимым воодушевлением за какие-нибудь минут сорок мне наговорила биографию этого действительно выдающегося актера и режиссера. Слушал я с большим вниманием и даже интересом, но никак не мог уловить, как можно это жизнеописание превратить в научно-популярную статью. Уже хотел я малодушно отказаться, только вдруг какой-то хвостик я поймал.
– Когда все это нужно? – вопросил я деловито.
– Позавчера, – счастливым голосом ответила подруга. – До сдачи реферата диссертации остался месяц. Можно два. У тебя есть уже идея?
– Есть только тень ее, но этого мне хватит, – ответил я словами, от которых не отказался бы и сам Шекспир. Я очень был обрадован этой смутной тенью. Перечисляя вехи творчества доселе мне безвестного Михаила Чехова, на пулеметной скорости мне Юна сообщила, что жесты и мимика актера, по мнению Чехова, рождают в этом актере соответствующие внутренние переживания. Этого было достаточно для моего спекулятивного мышления. Статью о том, что индийские йоги и великий русский режиссер Михаил Чехов думали одинаково, я накропал за одну ночь. Во мне играл и пенился азарт мошенника, и я этот азарт изрядно утолил. Все остальное было делом техники: в журнале «Наука и религия» у меня было достаточно приятелей, с которыми я разговаривал открытым текстом. И статью Ю. Вертман в номер вставили без очереди. Это была подлинная негритянская работа. Что судьба теперь запишет меня в негры прочно и надолго, я еще не знал.