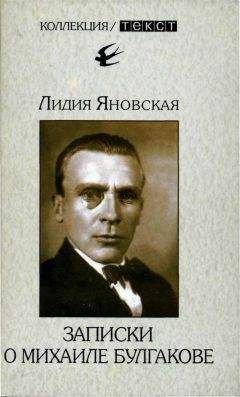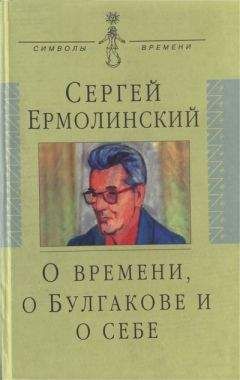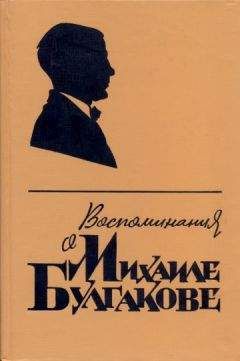Зато запись 1936 года представлена дважды — и собственно дневниковая, и в редакции 60-х годов. В дневнике, 26 ноября 1936 года:
«Вечером у нас — Ильф с женой, Петров с женой, Сережа Ермолинский с Марикой. За ужином уговорили Мишу прочитать сценарий ("Минина"). М. А. прочитал первые два действия. Слушали очень хорошо. Мне очень нравится Петров. Он очень остроумен, это первое. А кроме того, необыкновенно серьезно и горячо говорит, когда его заинтересует вопрос. К М. А. они оба (а главным образом, по-моему, Петров) относятся очень хорошо. И потом — они настоящие литераторы. А это редкость».
Как видите, в гостях шестеро. В том числе киносценарист Сергей Ермолинский и его жена Марика. И так соблазнительно было бы процитировать мемуары Ермолинского, подробно описавшего этот вечер: и как Ильф (Е. Петрова Ермолинский не упоминает) пил рябиновку, и что говорил при этом Булгаков, и что говорил Ильф... Но цитировать Ермолинского нет смысла, ибо ни рябиновки, ни приведенных мемуаристом в общем-то незначительных слов, вероятнее всего, просто не было. Увы, забыл Ермолинский живые реалии тех дней, и этот вечер с Ильфом и Петровым нашел не в памяти своей, а в том же дневнике Елены Сергеевны, который я цитирую здесь и из которого она разрешила Ермолинскому сделать выписки в феврале 1970 года. Нашел и расцветил сочиненными им подробностями.
А что же было?
Да вот то, что видно из этой краткой и все-таки насыщенной информацией записи в дневнике.
И без того не слишком разговорчивый при посторонних, Ильф после своей поездки в Америку особенно молчалив. Поэтому Елена Сергеевна слышит в основном Евгения Петрова. Ильф мало говорит и потому, что уже смертельно болен. Он молчит и покашливает. У него туберкулез горла.
Но Булгаков хорошо слышит и непосредственного, увлекающегося Петрова, и редкие реплики и молчание Ильфа. Ильф и Булгаков — люди, которые вообще и слышат и понимают без слов.
Булгаков читает свое оперное либретто «Минин и Пожарский» и потчует гостей (он был радушный хозяин), слушает Петрова, слушает Ильфа, шутит... А между тем вторым и очень сильным планом в его воображении созревают и разрешаются чрезвычайно важные для него творческие вопросы.
Как правило, гости у Булгакова засиживаются далеко за полночь. Но в этот вечер гости уходят рано — Ильф и Петров люди утренней работы. Булгаков провожает гостей до прихожей и, пока дамы целуются и обмениваются прощальными приглашениями, уходит к себе в кабинет. Открывает доску бюро, за которым так любит работать. Может быть, зажигает свечи. На первой странице тетради ставит дату — эту самую — 26 ноября 1936 года и пишет заглавие: «Театральный роман».
И сразу, с предисловия, почти набело, начинает роман. Было, видимо, что-то очень существенное для него в этом вечере с Ильфом и Петровым — что-то «размыкающее» внутренний «замок», «разрешающее» почти сложившийся замысел...
А Елена Сергеевна, прислушиваясь к грохоту в кухне, где домашняя работница моет посуду, и к тишине в булгаковском кабинете, дверь в который, вероятно, открыта, присаживается к своему рабочему столику в столовой и делает эту самую запись в дневнике. И то, что запись сделана несколько общо и вместе с тем на редкость дружелюбна (а Елена Сергеевна не жаловала писателей), говорит о том, что она не слишком близко знала Ильфа и Петрова, и еще о том, что Булгаков относился к ним хорошо. Ибо, как известно, любая неприязнь Михаила Булгакова к кому бы то ни было у Елены Сергеевны немедленно превращалась в ненависть.
В 60-е годы, редактируя свои дневники, Елена Сергеевна эту запись от 26 ноября 1936 года переписала так: «Вечером у нас: Ильф с женой, Петров с женой и Ермолинские. За ужином уговорили M. A. почитать «Минина», М. А. прочитал два акта. Ильф и Петров — они не только прекрасные писатели. Но и прекрасные люди. Порядочны, доброжелательны, писательски, да, наверно, и жизненно — честны, умны и остроумны».
И это значит, что в 60-е годы ее общее отношение к Ильфу и Петрову не переменилось.
И все-таки можно ли, опираясь на дневниковые записи Елены Сергеевны, считать, что в середине 30-х годов Ильф только дважды побывал у Булгакова?
Нет, конечно. Елена Сергеевна записывала не все. Вот что она рассказала мне об Ильфе сразу же, когда я познакомилась с нею.
Когда в жизни Булгакова — а было это в марте 1936 года — в очередной раз разразилась катастрофа и пьесы его снимали со сцены, а театры требовали возвращения авансов и в доме не было ни гроша, приходил Ильф и предлагал деньги — так же, как некогда, в 1929 году, это сделал В. В. Вересаев. Булгаков предложения не принял: к этому времени у него было твердое решение — в долги, подобные вересаевскому, более не входить.
Помнится, меня тогда поразило сочетание двух слов: «Ильф» и «деньги». Видите ли, литературовед иногда входит в биографию писателя, так сказать, с черного хода. Незадолго перед тем я работала с «Записными книжками» Ильфа. Записи Ильф делал не для читателей, а для себя. Многие — очень для себя. И из записей этих у меня сложилось весьма прочное ощущение, что чего другого — а денег у Ильфа не было.
Мое простодушное изумление вызвало гнев Елены Сергеевны. Мне была дана достойная отповедь (дескать, если она говорит, то знает, что говорит, и никакие сомнения здесь не уместны). И повторено: «Приходил Ильф. Предлагал деньги».
А вот записи в дневнике об этом нет...
И еще две записи Елены Сергеевны об Ильфе — теперь уже после его смерти. 1937, 14 апреля: «Тяжелое известие: умер Ильф». И 15 апреля: Михаил Булгаков в карауле у гроба Ильфа в Союзе писателей...
Незадолго до смерти, 3 апреля 1937 года, Ильф выступал на московском собрании писателей. Точнее, Ильф сидел в зале, по обыкновению последних месяцев молчал, покашливая, а Евгений Петров читал их совместную речь.
Газеты уже неумолчно кричали о «бдительности». Прошли разгромные писательские собрания в Минске и Ленинграде. Возникали новые «литературные обоймы», теперь они звучали так: «Корниловы, Васильевы, Смеляковы и прочие контрреволюционеры...» И писатели, суетливо отталкивая друг друга, старались впихнуть в эти обоймы новые имена.
А в речи, которую читал Евгений Петров, не было писательских имен, и в обстановке подавленности и страха это было чудом. «Здесь не бой быков, чтобы колоть писателей направо и налево», — говорил Евгений Петров и даже печально шутил на тему о том, что «топор не есть орудие критики и воспитания». Речь называлась «Писатель должен писать». (Она опубликована в Собрании сочинений И. Ильфа и Е. Петрова, Москва, 1961, и, помнится, я очень позаботилась об этом; но в книге «Почему вы пишете смешно?» цитировать ее мне уже не разрешили.)