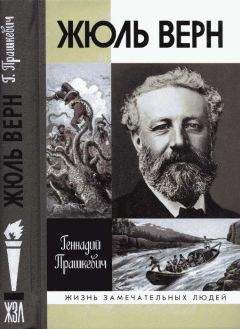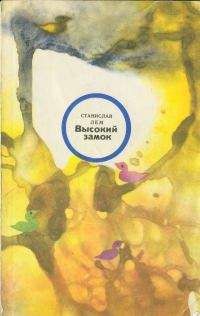Всё остальное, как Лем сам признавался, он «выдумал».
Но разве можно назвать выдумкой замечательные диалоги врачей?
Вот, например, один из них говорит об известном поэте Секуловском, укрывающемся от немцев в психиатрической больнице: «Наркоман. Морфий, кокаин, даже гашиш». А другой вторит говорящему: «Да, терапия у нас — ничего особенного: до сорока лет сумасшедший — это dementia praecox: скополамин, бром и холодный душ. После сорока — dementia senilis: холодный душ, скополамин, бром. Ну, и шоки. Вот, собственно, вся психиатрия». А чем занят сам поэт? О, Секуловский занят исключительно собой. «Что вы вообще можете знать о стихах? — говорит он Стефану Тшинецкому, главному герою романа. — Писание — это окаянная повинность. Если кто-то, наблюдая за агонией самого близкого ему человека, невольно вылавливает из его последних конвульсий всё, что можно описать, — это настоящий писатель. Филистер тут же завопит: “Подлость”. Нет, не подлость, милейший, а только страдание. Это не профессия, этого не выбирают, как место в конторе. Спокойствие — удел лишь тех писателей, которые ничего не пишут. А такие есть. Они блаженствуют в океане возможностей, понимаете? Чтобы выразить мысль, надо сперва ограничить её, то есть убить. Каждое произнесённое мною слово обкрадывает меня на тысячу иных, каждая строфа — это гора самоотречений. Я вынужден выдумывать уверенность. Когда отваливаются куски штукатурки, я чувствую, что глубже — там, за золотыми фрагментами, разверзается невысказанная бездна. Она там, она там наверняка, но любая попытка докопаться до неё оборачивается крушением…»
Конечно, это размышления самого Станислава Лема.
«Для кого мне писать? — говорит Секуловский. — Исчез пещерный человек, который пожирал горячий мозг из черепов своих ближних, а их кровью рисовал в пещерах произведения искусства, равных которым нет. Миновала эпоха Возрождения, гениальных универсалов и костров с поджаривающимися еретиками. Исчезли орды, обуздывающие океаны и ветер. Близится эра загнанных в казармы пигмеев, консервированной музыки, касок, из-под которых невозможно смотреть на звёзды. Потом, говорят, должны воцариться равенство и свобода. Почему равенство, почему свобода? Ведь отсутствие равенства порождает сцены, полные провидческой символики, порождает пламя отчаяния, а беда способна выжать из человека нечто более ценное, чем лощёная пресыщенность. Я не хочу отказываться от этих колоссальных перепадов напряжённости. Если бы это от меня зависело, остались бы и дворцы, и трущобы, и крепости!»
И далее: «Я не Мефистофель, я люблю каждую проблему продумывать до самого конца. Филантропия? Да ну. К милосердию приговорены дипломированные девицы с иссохшими гормонами, что же касается революционных теорий, то беднякам просто некогда заниматься такими вещами. Этим всегда занимались ренегаты из стана толстобрюхих. Впрочем, людям всегда плохо. Тот, кто ищет покоя, тишины, благодати, найдёт всё это на кладбище, а не в жизни. К чему тут абстракции? Я вырос в нищете, о какой вы понятия не имеете, господин доктор. Знаете, своё первое рабочее место я получил трёх месяцев от роду. Мать давала меня напрокат побирушке, так как женщине с ребёнком больше подают. Восьми лет от роду я болтался вечерами возле ночных заведений и выбирал в изысканной толпе самую шикарную пару. Шёл за ней по пятам и плевал на котиков, бобров, ондатр, оплёвывал изо всех сил манто, пропахшие чудесными духами, и женщин, пока не пересыхало во рту. А то, чего я добился, я отвоевал себе сам. У кого есть способности, всегда выбьется…»
Изъян этих рассуждений виден невооружённым глазом.
В итоге предательство Секуловского попросту предопределено.
Лем пишет об этом с настоящей горечью, чувствуется, что для него это не просто очередное разочарование. Он мучительно ищет, на кого можно опереться в поисках смысла, в поисках будущего. Больные — как опора — не подходят. Тогда, может, доктор Ригер? Низкорослый, носатый, смуглолицый, со шрамом на лбу. Крошечное пенсне в золотой оправе, постоянные разговоры на нейтральные темы: закончилась ли зима? как с углем? много ли работы? Или опереться на доктора Паенчковского? Правда, этот старикан похож на недожаренного голубя — тщедушный и заикающийся. Или на доктора Носилевскую? Бледное лицо, обрамлённое разметавшимися каштановыми волосами, под чистым красивым лбом — поистине крылатый разлёт бровей, а под ними — строгие голубые глаза. Или на доктора Марглевского, так щедро уснащающего свою речь латынью, что его нельзя понять? Все мировые гении для него всего лишь разные имена в некоей инвентарной описи. «Бальзак — гипоманиакальный психопат… Бодлер — типичный истерик… Шопен — неврастеник… Данте — шизоид… Гёте — алкоголик… Гёльдерлин — шизофреник…»
Станислав Лем внимательно присматривается к каждому.
Вот Меланья — старая дева, «ампулка со старым ядом». Вот некий псих — феноменальный вычислитель. Вот допившийся до сумасшествия тихий и незлобивый ксёндз. «Смех, да и только, — горько жалуется ксёндз Стефану, — но ведь у нас любой обидится, если с ним не выпьешь. И на Новый год, и на Пасху, а с освящением-то, это уж всего хуже. Мне нельзя, но разве они уважат мою болезнь? Мне от них не отбиться. Лучше уж посижу здесь, если вы, господин профессор (так он титуловал Пайпака), меня не прогоните».
А рядом с запуганными, встревоженными врачами, рядом с вопящим клубком смятенных больных умов мрачными тенями проходят полицейские — украинские и польские, наконец, немцы, всегда подтянутые, соблюдающие спокойствие. Они безжалостно расстреливают всех больных, но отпускают персонал. Сумасшедшие — это ведь не люди, они никому не нужны, а больницу переоборудуют под военный госпиталь. С каждой страницей романа нарастает внутреннее напряжение. Судьба… Ничего уже нельзя изменить… Тихий ксёндз говорит растерянному Стефану: «Прошу меня простить, но, кажется, вы не очень часто заглядываете в Евангелие. Прочитайте, как это там у святого Матфея — глава 27, стих 46».
У кого нет под рукой Евангелия, напомним:
«А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: “Или! Или! лама савахфани?” То есть: “Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?”».
Работа над «Больницей Преображения» шла легко, но попытки издать законченный роман сразу встретили сопротивление. Краковское издательство «Гебетнер и Вольф», куда Лем отнёс рукопись, было неожиданно закрыто, и всё имущество, вместе с рукописью Лема, передали в Варшаву.
Начались переговоры с издательством «Ксёнжка и Ведза».