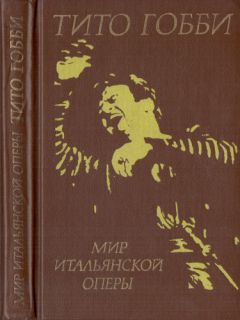Ознакомительная версия.
Очень бледный, коротким, еле внятным возгласом подозвав к себе сенатора, Верди покидает зал и торопливо ищет выхода из галереи.
Остальные с удивлением смотрят вслед двум друзьям.
Видение пожара, властно и четко вставшее перед маэстро, оказалось, как это выявится позже, пророческим предчувствием.
Маэстро не дал задерживать себя дольше. Он стоял на залитых водою ступенях, готовясь сесть в свою гондолу. Сенатор предложил проводить его. Он отклонил предложение.
– Невесело мы расстаемся, мой Верди!
В глазах добряка стояли слезы. Но друг в темноте не мог их разглядеть.
– Ох, этот химерический старик с его проклятой галереей!
Верди ответил уклончиво:
– Нет, не в том дело. В наши годы человек, хоть и чувствует себя неплохо, все-таки не должен переутомляться. Ах, друг мой, я стосковался по весне, по полям, где скоро начнется вспашка, по моим добрым животным; тяжело – и все тяжелее – ложится на меня тень города. Там, на воле, в своем доме, в хлевах, на воскресных базарах среди крестьян, – там я снова тот, кто я есть на самом деле. Лучше бы мне никогда и не становиться ничем другим!
Сенатор обеими руками схватил маэстро за руку.
– Верди! Хотел бы я хоть на день стать Джузеппе Верди!
– Не советую! Кто я такой? Ленивый, несчастный, опустошенный рантье славы, которая уже давно не слава. Я уже десять лет не композитор, но, к сожалению, и не крестьянин тоже.
Словно это признание было слишком откровенным, Верди поспешил проститься. Гондола быстро скрылась в ночи, потому что месяц спрятался, и легкий зимний холод справлял свое торжество.
Сенатор вернулся в комнату, к сыновьям. Ренцо читал книгу, Итало выказывал признаки крайнего нетерпения. Отец тоном оратора, привыкшего преподносить неоспоримые суждения, проговорил:
– Это величайший человек нашего времени, ибо он – самый подлинный! Вы почувствовали?
Никто не ответил на вопрос. Итало избегал раздражать отца, хотя считал мелодии «Трубадура» и «сантименты» «Травиаты» безвкусицей. А Ренцо, безнадежно немузыкальный, думал о Риме, о своих столичных друзьях.
Сенатор легко плакал, и чем больше входил в года, тем легче. Слезы расставания еще стояли в его глазах, и мысли его не могли оторваться от Верди:
– Вспомнить только, как взошло это солнце. Никто ничего не подозревал. Пришли послушать музыку безвестного маэстрино…
Итало знал наперед, что теперь последует рассказ о премьере «Набукко», давно набившей ему оскомину. Поэтому он при первой же возможности поспешил прервать сенатора. Правда, он сделал это тихо, немного натянутым голосом, – тоном, какой появляется у юноши, когда он в полночь сообщает отцу, что должен еще забежать к товарищу.
– Папа! Извини меня, я ухожу. Я договорился с Пиладом.
– Ладно, ладно! Ступай к своему Пиладу, мой Орест!
Старик не следил за путями сына. Хоть он и знал, что Итало редко ночует дома, он смотрел на это сквозь пальцы. Итало ушел очень быстро. Ренцо взял свою книгу и тоже простился.
Оставшись один, сенатор вдруг побагровел, словно силился подавить припадок бешенства; потом подошел к своим греческим текстам, раскидал их без надобности, вернулся к столу и закурил новую сигару. Его большое темпераментное лицо сразу стало приветливым. С чувственным довольством выпускал он дым, и голос его звучал лукаво и беспричинно весело, когда он, сам того не сознавая, процитировал латинский стих:
«Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor»[24].
Маркиз Андреа Гритти быстро утешился, когда так неожиданно оборвался осмотр его сокровищницы. Знаменитому маэстро, решил он, стало вдруг дурно. А он всегда бывал доволен и радостно растроган, когда смерть напоминала о себе людям моложе его. Всякий смертный случай в кругу знакомых он причислял к своим личным успехам.
В небольшой, хорошо натопленной комнате Франсуа приготовлял на ночь все, что полагалось. Маркиз никогда не ложился в кровать – лежачее положение говорило о поражении, о сдаче.
Лежащего скорее задушит коварный конец. Надо любую минуту быть во всеоружии. Столетний сел в глубокое кресло. Чтоб не свалиться ничком, он дал удобно пристегнуть себя ремнем к спинке. Впрочем, вот уже десять лет он не знал того, что люди называют сном. Подобно факирам или йогам, он умел, не засыпая (ибо и во сне организм изрядно изнашивается), приостанавливать в себе жизнь.
Он сидел неподвижно, изгнав из мозга даже беглые дремотные образы, дыша скупо и редко, полузакрыв глаза. В той же комнате на тюфяке спал красивый семнадцатилетний мальчик из его челяди. Если Гритти и не прибегал к доброму библейскому средству, следуя коему царь Давид оживлял свое ледяное старческое тело теплотой Авигаили, все же в свежем юном дыхании рядом с собою он чувствовал защиту.
Итало вышел из дому через боковые ворота прямо на церковную площадь. Недавнее самодовольное и несколько наигранное выражение начисто сошло с его лица. Дышал он глубоко, будто с него свалился тяжкий гнет. Он запоздал на добрых полчаса, а за это время многое могло приключиться. Но каких только предвкушений опасности, даже смерти не жаждет юность в тайнике своего сердца, хотя бы и страшась их! Итало накинул поверх фрака плащ и помчался как бешеный. Он бежал по мертвым черным улочкам, по лестницам мостов, мимо церквей и колоколен, которые, точно исполинские допотопные птицы, нахохлились в безмолвии ночных площадей. Он бежал, как можно бежать только ночью, без удержу и без устали, словно перерастая масштабы сжавшегося города. Он столкнулся только с тремя живыми существами, но эти трое – тени, в исступлении говорившие сами с собою, – едва ли принадлежали к человеческой породе.
Много лет спустя, давно завязнув в рутине более зрелого жизненного уклада, Итало вспоминал этот ночной марафонский бег, эту полноту и целеустремленность как самое острое в своей жизни ощущение счастья.
В одном из бесчисленных переулочков молодой человек остановился. На двери, в которую он, дрожа от волнения, дважды коротко стукнул, была прибита медная табличка: «Доктор Карваньо».
Тотчас дверь отворилась. Итало втянули в дом.
– Наконец! Наконец-то!
Страх был напрасен. Муж Бьянки, врач, возглавлявший одно из отделений в Ospedale civico,[25] сегодня, как это часто случалось последнее время, заночевал в больнице. Часа два тому назад приходил от него посыльный – взять книгу.
Все разрешилось без особых приключений. А за сильное нервное возбуждение Итало вскоре был вознагражден тем счастьем, которое своими долгими мягкими объятиями, своими умелыми ласками зрелая женщина дарит мужчине, когда он еще мальчик.
Ознакомительная версия.