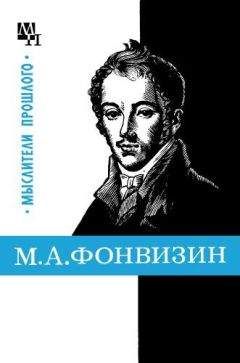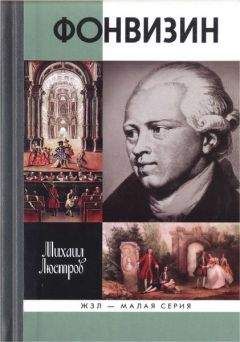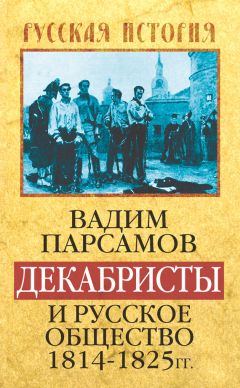Пущину удалось переправить в Петербург статью Фонвизина через знакомого тобольского прокурора П. Н. Черепанова. Но к Киселеву она не попала. И. А. Набоков, родственник Пущина, взявшийся было выполнить поручение ссыльного декабриста, писал 5 июля 1842 г. в Туринск: «Хлопотал с твоею рукописью... и ничего не вышло» (там же, 314). Впрочем, Фонвизин и сам не верил, что его проект будет поддержан официальными властями. «Кажется,— писал он еще 23 июня Пущину, — бумага наша придет не вовремя и не обратит на себя даже внимания: в столице слишком много думают об одних физических наслаждениях» (там же, 315).
Проект Фонвизина и в самом деле был слишком радикальным, чтобы его могло принять царское правительство, которое сочло опасным для дворянского сословия даже умеренные рекомендации Киселева. После издания пресловутого закона об обязанных крестьянах оно долго не решалось предпринять какие-либо меры по урегулированию крестьянского вопроса. Лишь после Крымской войны, которая окончательно обнажила всю гнилость феодально-крепостнического строя, правительство вынуждено было вновь вернуться к этой злободневной проблеме. И все началось сызнова. Опять посыпались проекты, повторяющие старые аргументы в пользу освобождения крестьян. Достаточно в этом отношении сослаться на «Записку об освобождении крестьян в России» либерального историка и публициста К. Д. Кавелина, чтобы представить общий характер данных аргументов.
Кавелин доказывал, что крепостное право не только сдерживает экономическое развитие России, но таит в себе огромную политическую опасность: «Народ сильно тяготится крепостною зависимостью, и при неблагоприятных обстоятельствах из этого раздражения может вспыхнуть и разгореться пожар, которого последствия трудно предвидеть» (39, 33). Он предлагал проведение крестьянской реформы на следующих основаниях: «1) крепостных следовало бы освободить вполне, совершенно, из-под зависимости от их господ; 2) их надлежало бы освободить не только со всем принадлежащим им имуществом, но и непременно с землею и 3) освобождение может совершиться во всяком случае не иначе как с вознаграждением владельцев» (там же, 43). Кавелин был против ограничения крестьянского надела минимумом, который необходим для оседлости; он признавал целесообразным сохранение и закрепление за крестьянином надела, находящегося в его действительном пользовании. В противном случае, замечал он, «бывшие крепостные впали бы в крайнюю нищету и обратились в бездомников и бобылей — нечто вроде сельских пролетариев, которых у нас покуда, слава богу, очень мало, или они стали бы толпами выселяться в другие губернии и края империи» (там же, 45). Что касается самого земельного надела, то крестьянин обязан был выкупить его у помещика на собственные средства, правительству же рекомендовалось лишь подготовить общественное мнение к устранению крепостного права.
Ясно, что при таком способе освобождения, когда все материально-финансовые тяготы перекладывались на плечи разоренного крестьянства, ожидать какого-либо продвижения к цели было бессмысленно. И это хорошо понимал еще в начале 40-х годов Фонвизин, проект которого был единственной в дореформенный период попыткой формулирования практических требований самих крестьянских масс.
Неудача с проектом крестьянской реформы заставила Фонвизина серьезно задуматься над вопросом: почему самодержавная власть не освобождает крестьян от крепостной зависимости? Чтобы ответить на него, он обратился к изучению истории закрепощения русского крестьянства. Выводы, к которым он пришел, позволили ему принципиально пересмотреть свое мнение о возможности официального, правительственного решения крестьянской проблемы.
По мнению Фонвизина, исторические факты доказывают, что в средние века русский народ был «на высшей степени гражданственности» и смело стоял за свои права, когда им «угрожала власть», что повсюду на Руси были «во всей силе» общинные муниципальные учреждения и волости и что крепостного рабства до XVII столетия не существовало в России: «Все русские были вольные люди». «Наши историки, особенно Карамзин, — писал Фонвизин, — скупы на этого рода подробности: говорят о них слегка или вовсе пропускают проявления в России политической свободы и те учреждения, которые ей благоприятствовали. Русские историки, напротив, везде стараются выставлять превосходство самодержавия и восхваляют какую-то блаженную патриархальность, в которой неограниченный монарх, как нежный, чадолюбивый отец, и дышит только одним желанием осчастливить своих подданных» (8, 3).
В действительности, считал Фонвизин, дело обстояло иначе: русский народ был свободен и счастлив лишь до тех пор, пока в России не утвердилось самодержавие. Беспристрастная история свидетельствует, что «в общественном быту славян преобладала стихия демократическая, общинная». Это общинное устройство, основанное «на началах чисто демократических», доказывал Фонвизин, сохранялось на Руси вплоть до московской централизации. Несомненное тому доказательство он усматривал в существовании «вольных общин» — Новгородской, Псковской и Вятской, в которых «славянский элемент развился своеобразно» — вылился в господство народного веча. «В этих народных державах, — отмечал он, — под сению политической и гражданской свободы основались демократические учреждения, под которыми они (граждане. — А. З.) были независимы и благоденствовали». Фонвизин считал, что народное вече обладало полнотой законодательной власти, поэтому само избирало всех «общинных начальников»: тысяцких, бояр, посадников, церковных владык и даже князей, бывших только исполнителями его определений (см. 8, 4).
Нет необходимости опровергать эти идиллические выводы о древнерусской политической действительности; их ошибочность очевидна. Важнее констатировать другое: Фонвизин перенес на домосковский период русской истории свой идеал раннехристианской общинной демократии, «обмирщил» таким образом этот идеал, включил в рамки национальной исторической жизни и выдвинул в качестве политического аргумента против российского абсолютизма.
Фонвизин прямо утверждал, что «древняя Русь не знала ни рабства политического, ни рабства гражданского: то и другое привилось к ней постепенно и насильственно, вследствие несчастных обстоятельств» (там же, 3). Первым «несчастным обстоятельством» он считал возвышение московских князей в период татаромонгольского ига, возвышение, сопровождавшееся одновременным закрепощением крестьян. По мнению Фонвизина, уже Иван Калита, став по воле ордынского хана собирателем дани «не только со своего малого княжества», но со всей Руси, «собирал с народа гораздо более денег, нежели сколько платил хану, что и было источником его богатства, доставлявшего ему покровительство в Орде» (там же, 5). Подобным же образом «раболепствовали ханам и покупали их вельмож» его преемники.