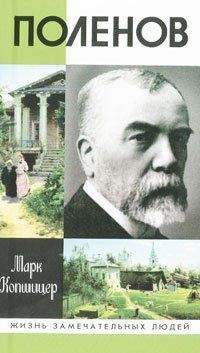Здесь явно — ироническое отношение Поленова к словам Крамского, и надо сказать, что Поленов прав. Именно «Птицелов» Перова знаменует собою отход художника от гражданских, острых подчас публицистических мотивов, таких как «Сельский крестный ход на Пасхе», «Тройка», «Фомушка-сыч», «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы», «Приезд гувернантки в купеческий дом», «Утопленница». После «Птицелова» Перов в своих жанровых работах дойдет до почти анекдотических, обмусоленных во множестве ремесленных копий «Охотников на привале». В 1870-е годы Перов покажет еще себя превосходным психологом-портретистом, увековечив образы А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, В. И. Даля. Но в жанре он уже исчерпал себя.
Похвала Крамского была явно похвалой не столько «Птицелову», сколько Перову вообще, похвалой инерционной. И передавая слова учителя сестре, Поленов не сопровождает их своим одобрением. Поэтому-то письмо, полученное им из Парижа, так радостно, так мажорно, исполнено таких тонов, каких давно уже не было слышно от Лили.
«Васька! Ура! Я ученица Mr. Charles Chaplin (г-на Шарля Шаплена)! Это не художник, а прелесть. Преинтересный тип. Вообрази себе большую темную мастерскую, весь свет сосредоточен на натуре, вокруг всё мольберты, — шум, смех, говор, ходят, устраиваются, но вот маленькая (его, лично его) дверь отворилась и в ней показалась длинная худая, белокурая фигура — это профессор. Всё стихло, всё ждет… ловят каждое его слово. Да и он — какое благородство отношений, каким он себя настоящим держит рыцарем… Прелесть, я тебе скажу, увлекательный тип. Такой спокойный, и всех бранит, никого не хвалит, разве заметит, что руки упали…»
Но все это вдруг мгновенно обрывается.
Идет Франко-прусская война. Пока на фронте сохраняется равновесие, беззаботный Париж веселится, танцует, рисует. О войне ничто, кроме газет, не напоминает. Но вот пруссаки прорвали французский фронт. Пал Седан, несокрушимая, казалось, крепость, и вот уже немцы подошли к Парижу. Веселая жизнь французской столицы словно бы обрывается. По вечерам всех загоняют домой.
И. П. Хрущов, приехавший в Париж дней за десять до Седана, увозит Веру и Лилю в Россию, в Киев. Все, разумеется, сочувствуют французам, и Вера очень колоритно описывает свои впечатления (при всем том, надо сказать, что возвращались они из Франции через Германию. Таковы уж были тогда нравы): «В Кёльне повстречали мы два поезда, первый подвез раненых, и легко раненных разложили тут же по douane (таможне) у тебя под ногами; тяжело раненных стали выносить в город, — лицо одного я до сих пор забыть не могу, — пленные французики, жалкие такие, показались у ворот вагона: „Каплю воды, пожалуйста“, — тихонько молили они. Потом их отодвинули, и подкатил другой поезд, вагоны убраны зеленью, песни, крики, пьяные рожи немцев. Триумфиренд… едут они дальше продолжать свои победы… А тебя разбирает такая злоба, такое отвращение от всех этих королей, политиков, военных гениев, комбинаций — все это так мелко перед этим громадным злом…»
Поленов думал, сдавши университетские экзамены, присоединиться к сестрам, но события войны сделали это невозможным. И он, как все предыдущие годы, проводит лето в Имоченцах. На сей раз с Левицким. Этим летом он работает в деревне необычайно много. За лето — 100 этюдов. Нечто небывалое. Но каковы они — вот в чем вопрос?! Вопрос, на который мы, к сожалению, не можем ответить положительно. То, что сохранилось до наших дней, свидетельствует, что искусством композиции Поленов еще не овладел. Он пытался писать панорамные пейзажи. Но для этого необходимо определенное видение, видение обобщенное; Поленову же люб каждый листок, дорога каждая травинка, каждая ветка. Получается удивительное несоответствие частей и целого. У него еще взгляд «камерный», а «замах» — монументальный.
В то же время у него зреют мотивы, весьма далекие от академии. Впоследствии в Имоченцах (в 1876 году) после окончания академического пенсионерства он будет писать (но не закончит) картину «Семейное горе», выдержанную совершенно в духе картин художников-шестидесятников (того же Перова хотя бы). Летом 1870 года он делает для этой картины этюд маслом «Топящаяся печь». Он много рисует в избах, рисует интерьеры, портреты.
В сентябре Поленов вернулся в Петербург. В академии висят картины Макарта, те самые, что Лиля видела в Дрездене. Поленову картины Макарта понравились. Но купят ли их? Кто? На Западе, видно, сейчас, когда маркграфы, курфюрсты и прочие титулованные особы обеднели, некому покупать такие вещи. Буржуа? Они еще не так богаты… Да и поймут ли они? Правда, в Москве начал, говорят, покупать некто Третьяков, уже изрядно собрал картин. Но одна ласточка весны не делает.
На сей раз, к счастью, Поленов ошибся. Третьяков оказался той ласточкой, которая хотя и не сделала весны, но ее ознаменовала. Вслед за ним появились другие коллекционеры, и из купеческой интеллигенции, а потом и из интеллигенции трудовой (врачи, адвокаты), которые, конечно, не могли покупать так много, как купцы и предприниматели, но все же примером своим подзадоривали Третьяковых, Морозовых, Солдатёнковых, Щукиных. А эти люди заставили и царский двор посмотреть на искусство не как на пустую забаву.
Кроме картин Макарта еще один сюрприз поджидал Поленова в Петербурге: приехал из Италии Павел Петрович Чистяков. «Хотя привез мало, — пишет Поленов, — но зато, что привез, изумительно и по живописи, и по рисунку». Поленовские вещи Чистякову понравились, но не полностью. Понравился колорит. Рисунок еще слаб. Рисунку надо учиться. В свободное время Поленов стал копировать — выпросил у Павла Петровича — одну из картин, привезенных Чистяковым из Италии: «Голова чучары». Чистяков рассказывал, что чучара эта — известная красавица Джованина… (Впоследствии, правда, Поленов считал, что лучшей работой, привезенной Чистяковым из Италии, был «Муратор».)
Вообще же завертелся он теперь как белка в колесе. Нужно было поторапливаться — писать академическую программу. После картины Иванова Поленова интересовало все, что касалось Христа. Он сразу же представил всю сцену воскрешения дочери Иаира так, словно бы она происходила при нем: вот Христос подошел к ложу умершей, взял ее руку левой рукой, правой сотворил крестное знамение, и мертвая ожила. Она еще ничего не понимает, но ощущает, что только что ее не было, а вот сейчас она есть, она жива, опять кровью наполнились ее сосуды, опять бьется сердце, опять она дышит, видит, только еще не догадывается, что это за человек стоит подле нее и почему все окружающие так удивлены…
Эскиз получился хорош. Он был тотчас утвержден академическим начальством. Тут бы и начать работу, но маменька Мария Алексеевна твердит: прежде всего университетский экзамен. И откровенно и довольно равнодушно признается Чижову: «Вася в большом недоумении: его эскиз утвержден, тема ему очень по душе, работать и писать эту картину очень бы желал и мастерская дана. Но прежде июня приняться нельзя. Экзамены последнего курса кончаются в первых числах июня, и поэтому ранее нельзя и думать приняться за картину. А тогда приниматься ли? Мало времени…»