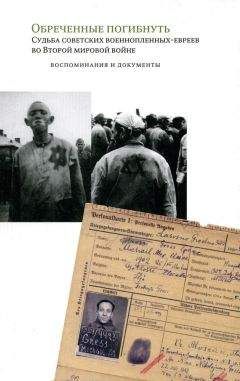Но вот машина въехала в какой-то город. Дорога теперь была без ухабов. Стало немного легче. Я лежал на дне кузова и не видел, что делается вокруг. И вдруг… Что это?!! Я отчетливо слышу: на встречной машине многоголосый хор поет «Катюшу»! Я не верил своим ушам. Здесь, в логове врага, и вдруг — «Катюша». Не сошел ли я с ума? Тем временем, машина неслась дальше. Вот она въехала в какой-то двор. Я вижу многоэтажное белое здание. Кругом шум, разговоры и крики. Но что это? Что за наваждение? Я опять слышу русскую речь. И какую! Слышу сочную, расцветистую, родную русскую ругань. Я никогда не ругался и не любил, когда ругаются при мне. В армейские годы и особенно в военное время этот ругательный язык был чуть ли не официальным. Без ругательных слов не обходился ни один разговор, ни один приказ, ни одно распоряжение, ни один начальник, начиная с младшего и кончая старшим. Я тоже знал этот язык, но говорить на нем так и не научился. И вот когда я услышал здесь эту знакомую и такую сейчас милую речь, стало как-то легче на душе. Я подумал: а чем черт не шутит, может быть совершилось чудо, и я, каким-то непонятным образом, попал к своим. Но чуда не было. Меня вытащили из кузова, положили на носилки и потащили в помещение. Положили на пол в коридоре. Кругом меня лежали такие же бедолаги, как и я. Окровавленные, жалкие русские солдаты.
Теперь я понял. Я попал в финский госпиталь для русских военнопленных. Госпиталь обслуживался русскими врачами, санитарами, сестрами — тоже пленными. Все они подчинялись финским офицерам и врачам.
Нас было очень много. Бедные финны. Они не ожидали такого массового пленения. Они не знали, что делать с пленными, куда их разместить, как их накормить. Ведь они и сами жили не очень жирно.
Так закончился первый и самый страшный этап моей новой жизни.
Госпиталь
Несколько суток мы так и пролежали на полу, без обработки ран. Но были под крышей и получали какую-то еду. Затем нас отнесли в баню. Подвергли санобработке, одели в чистое белье и разнесли по палатам. Меня положили на койку, застеленную хоть и стареньким, но чистым бельем. Это уже было блаженством. После всего пережитого очутиться в светлом помещении, на отдельной койке с чистым бельем и почти на мягком матраце. Казалось, что это сон или сказка. Ведь о таком я даже не мог мечтать.
До моей раны все еще не дошла очередь. А она давала о себе знать все больше и больше: сильно гноилась и очень болела. Я не мог не только встать или сесть, но даже повернуться на бок. До сих пор не могу понять, как при такой запущенной ране, в грязи, при холоде и голоде, при высокой температуре я не получил никакого заражения или еще чего-нибудь. Вокруг меня лежали еще человек 12–15, в основном тяжелораненые, преимущественно люди среднего возраста русские и украинцы. Народ простой: в основном колхозники. Некоторые уже двигались и помогали нас обслуживать. Разговор в основном касался домашних дел. Вспоминали о своих деревнях, о родных. Но главная тема разговоров вертелась вокруг еды. Дело в том, что мы были очень голодны. Нас держали на почти голодном пайке. Утром — маленький кусочек хлеба-сур-рогата. Этот кусок мы обычно тут же проглатывали, а ведь он был на весь день. Затем какая-то жидкая баланда и кружка кипятка. На обед обычно — суп с гнилой, мороженой картошкой, от которого несло страшным запахом. Вечером — тоже что-то вроде баланды и кипяток.
Естественно, что разговор шел о еде. Каждый старался рассказать, какие вкусные и изощренные блюда он ел дома. Думаю, что в основном такие блюда они просто выдумывали. Каждый старался перещеголять другого. Этим они старались возместить недостаток еды и облегчить очень голодное состояние. На меня эти разговоры действовали крайне неблагоприятно, вплоть до тошноты и головокружения.
Обслуживали нас финские сестры. Старшая сестра — высокая, худая, очень добрая женщина. Ее помощница — уже пожилая женщина, очень миловидная и добросовестная. Молодые сестры — финки. Все они выполняли свои обязанности аккуратно. С нами в разговор не вступали: ведь мы их враги; но соответствующую помощь оказывали.
Наконец, дошла и моя очередь. Мою рану обработали: обмыли, качали головами. Видно, рана была очень запущена. Чем-то помазали, перевязали бумажным бинтом. Перевязки проходили через каждые 2–3 дня. И хотя медикаментов почти никаких не было, все же стало легче, и я стал чувствовать себя лучше.
Я немного мог изъясняться с сестрами на немецком языке. Они все его знали. Это им очень нравилось. Они стали меня расспрашивать: кто я и что я. Когда они узнали, что я учитель, они были очень удивлены и стали ко мне относиться более уважительно, даже стали приводить к моей койке своих знакомых и показывать им чудо — учитель (OPETTAJA) — русский пленный с красивой, черной бородой.
Кто знает, может это и помогло мне в том, что у меня сохранилась нога. Финские врачи не очень церемонились с пленными: резали руки и ноги напропалую, ведь для них это была большая практика, чтобы помочь своим солдатам, попавшим в беду.
Я стал понемногу поправляться. Стал ковылять по палате на костылях. Я уже мог обслуживать своих товарищей по палате.
Я был очень слаб. Длительный голодный паек давал о себе знать. Одна молоденькая финская сестра стала меня подкармливать. Когда утром она раздавала градусники, она тихо шептала мне: «Ich habe in der Tasche». Это означало, что в условленном месте, в коридоре на батарее, лежит пара галет. Я потом выходил и тихонько, чтобы никто не видел, поедал эти галеты. Они были очень вкусны и дороги мне. А финка при этом очень рисковала. Им строго-настрого запрещалось не только помогать, но даже разговаривать с пленными. За такой проступок их стригли наголо и отправляли домой.
Так прошли недели и месяцы в госпитале.
Я не целую крест
Не могу не рассказать об одном эпизоде, который крепко запал в мою душу на всю жизнь. Был какой-то православный праздник. В палату прибежал старшина госпиталя (какой-то маленький пленный узбек) и приказал всем ходячим больным спуститься во двор. Там, сказал он, будет большой молебен. Ходячие начали спускаться во двор. Я лежал у окна и ходить, слава Богу, не мог. Из окна я видел, как двор постепенно заполняется ранеными. Кто на костылях, кто с палочкой, а кто просто на своих ногах заполнили двор. Здесь же был весь обслуживающий персонал. На какое-то возвышение поднялся человек в военной форме — армейский священник. Он произнес длинную проповедь. О чем он говорил, я не слышал, но видел, что периодически многие из толпы вслед за ним крестились. Затем, после окончания проповеди он спустился с возвышения, стал подходить к каждому и давал целовать крест, который висел у него на груди. Почти все целовали его крест и крестились. Мне было очень противно это зрелище, и я в тот момент был рад, что лежу, прикованный к постели.