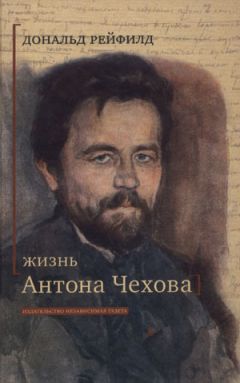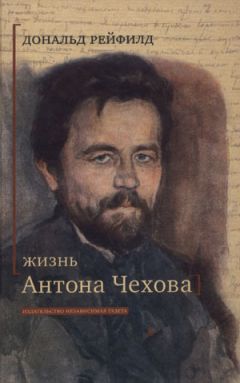Маша пришла в замешательство оттого, что последует за советами профессора Остроумова. Она как раз собралась отремонтировать кабинет брата — и теперь стала опасаться, что дом в Аутке вскоре может быть продан; дачи в Гурзуфе и Кучук-Кое Антон уже выставил на продажу. В таком случае ей теперь не было нужды занимать пост начальницы ялтинской гимназии, который, по слухам, уже ожидал ее. Так, неожиданно, и над ее домом и над карьерой нависла угроза. Антону она жаловалась на тоску, которая не дает ей спать. Миша призывал ее отстаивать свои интересы: «Если бы я послушался того, кто был против моей женитьбы и против моего переезда в Петербург, то я не имел бы того, что имею»[577]. Вскоре он приехал в Крым навестить и утешить сестру, хотя на уме у него были тайные планы приобрести в свою собственность дачу в Гурзуфе. Узнав, что Маша просит пятнадцать тысяч рублей за дом, когда-то купленный за две тысячи (стоимость его возросла ввиду проектируемой прибрежной железной дороги), он обрушился на нее с упреками: «Вы, высокопорядочные, редкие по душевной чистоте люди, заразились общим в Ялте чувством кулачества. Разве не грешно <…> Мне грустно, грустно, грустно»[578].
Антон заверил Машу, что в Ялте он будет проводить зиму и осень, — по мнению Остроумова, в средней полосе России эти сезоны были наиболее опасны для чахоточных. На следующий день после медицинского обследования Антон с Ольгой выехали за город: поклонница Чехова, художница Якунчикова, предложила им свою дачу на реке Нара, к юго-западу от Москвы. Антон сразу отправился на речку порыбачить и звал к себе в компанию брата Ваню. Шумных собеседников он не жаждал и посему написал Вишневскому о том, что ему «вредны возбуждения», напомнив об эпизоде в театре, когда «перед каждым спектаклем во время грима трое рабочих должны были затягивать Вам веревкой половые органы, чтобы во время спектакля не лопнули брюки и не случился скандал». Обезопасив себя от болтливых визитеров, Антон понемногу работал, сидя у большого окна просторного флигеля, или объезжал с Ольгой окрестные имения, подыскивая будущее жилье.
Посетил Антон и места, знакомые ему с начала восьмидесятых годов, когда еще малоопытным доктором он работал в больницах Звенигорода и Воскресенска. Двенадцатого июня, отослав Миролюбову рассказ «Невеста» (заново переписанный в корректуре), он побывал на заброшенной могиле доктора Успенского на звенигородском кладбище, затем гостил у Саввы Морозова в Новом Иерусалиме. Встречал старых друзей: когда-то бравый поручик Эдуард Тышко, теперь такой же больной, как и Антон, уже не мог обойтись без костылей. Не найдя в округе подходящего дома, Чеховы через две недели вернулись в Нару. Бабкино, где Антон провел с Киселевыми три дачных сезона, они объехали стороной, хотя воспоминания тех лет нашли отражение в «Вишневом саде». Киселев к тому времени разорился, и имение было выставлено на торги. Однако когда все пошло прахом, ему, при всей его никчемности, удалось, как и Гаеву, подыскать себе место в банке.
В Крыму Маша с нетерпением поджидала Антона и Ольгу, обещая вдоволь накормить их персиками и сливами из разросшегося сада. Шестого июля муж и жена выехали в Ялту, где вместе с Евгенией Яковлевной и Машей провели два месяца. Ольга установила мир и лад в отношениях с золовкой и свекровью: Антона ничего не должно было отвлекать от работы над новой пьесой. Третий сезон МХТа без Чехова в репертуаре мог оказаться для театра фатальным. Антон вплотную занялся пьесой еще в Наре, однако там его отвлекли поиски жилья, к тому же несколько страниц унесло ветром в сад, где они погибли в мокрой от дождя траве. Ольга держала коллег в курсе происходящего: 17 июля Немирович-Данченко писал ей из имения жены в Екатеринославе: «Я очень доволен, что Вы в Ялте». Станиславскому он сообщал спустя неделю: «Надо готовиться к тому, что Чехов опоздает. Хотя Ольга Леонардовна писала мне, что он, приехав в Крым, снова приступил к пьесе»[579]. Писалась пьеса туго: Антон объяснял свои скромные успехи «и леностью, и чудесной погодой, и трудностью сюжета». В конце июля Станиславский делился своим беспокойством с Ольгой: «Больше всего нас огорчает, что Антон Павлович не чувствует себя совсем хорошо и иногда раскисает. Не раз помянули все недобрым словом Остроумова. Он наврал и сбил хорошее настроение с Антона Павловича <…> Не думайте дурно о нас. Мы огорчаемся за самого Антона Павловича и его окружающих, а о пьесе же думаем совсем в другие минуты, когда волнуемся о судьбе театра»[580].
Незваных гостей Ольга отправляла восвояси. Лишь врачу Тихомирову разрешалось подолгу сидеть в чеховском доме. Поэту Лазаревскому сразу был дан укорот, и тот оставил в дневнике недовольную запись: «С ее [Книппер] приездом у них в доме всё и все напряжены»[581]. Маша тоже пожаловалась ему, что теперь к Антону ее «не пускают». Тем временем в МХТе начались репетиции, однако Ольге отпуск продлили до середины сентября, чтобы она, по ее собственному выражению, побыла «Цербером» при Антоне. Самочувствие у нее было великолепное: «Здоровья хоть отбавляй, кругла и черна стала <…> встаю в шесть часов утра <…> бегу купаться и плаваю много и порядком далеко. Ем, сплю и читаю и больше ни-ни», — уверяла она Станиславского. Антон под ее присмотром работал дни напролет и прерывался лишь тогда, когда чувствовал себя уж очень скверно. Ольга готовилась к новой роли в создающейся на ее глазах пьесе: «Уже обливаю ее слезами». Готовился к новой роли и Вишневский: Антон посадил его на диету.
Иные сомневались, что у Антона хватит сил продолжить писательский труд. Санин писал Лике 14 августа: «Тихомиров <…> показал мне последний портрет Чехова <…> Почти не узнал я прежнего Чехова. Очень мне больно было видеть карточку. <…> Но Книппер храбрится <…> А потом тут же спрашивает смущенно: „А разве вы… что-нибудь находите?“ Сама себе боится признаться».
В Ялте Ольге стало еще веселей, когда по ее протекции туда перебрался брат Константин. Пользуясь знакомством Чехова с Гариным-Михайловским, руководившим постройкой прибрежной железной дороги, она вытащила брата из «подлого Кавказа», к тому же вредного для его здоровья.
В отсутствие гостей в дом возвращались покой и уют, и вместе с тем жизнь становилась досадно однообразной. Антон решил возобновить шутливую пикировку с братом Александром. Ему он писал на языке, который для Ольги был недоступен: «Quousque tandem taces? Quousque tandem, frater, abutere patientia nostra? Sum in Jalta. Scribendum est»[582]. Александр ответил незамедлительно, и в тоне его письма, написанного по-латыни и по-гречески, прозвучали былые теплота и грубоватая откровенность, которые за последние годы, казалось, ушли из отношений между братьями. Александр вступился за горничную Ольги, вечно беременную Машу Шакину: «Сама она и чрево ее висят на волоске и могут быть изгнаны Ольгой Леонардовной за злоупотребление кактусом с женатым человеком, мне неизвестным <…> Позволь по этому поводу войти с ходатайством к моей милой belle-soeur[583]: не простит ли она виновную? <…> Не забывай, что женская сорочка есть занавес перед входом в общественное собрание, куда допускаются одни только члены с обязательством во время пребывания в нем стоять».
Собственные сыновья особого огорчения у него не вызывали, хотя Коля прикончил домашнюю таксу, а Антон отставал в развитии и не пытался соблазнять горничных («по наследственности ожидал я большего»). Миша же, его особая гордость, в свои двенадцать лет уже болтал по-французски и по-немецки, читал, несмотря на запреты Натальи, сочинения дяди, участвовал в любительских спектаклях и ухаживал за девушками. О собственных мужских способностях Александр отрапортовал Антону стишком:
Живу не авантажно,
Но не кляну судьбу:
Ебу я хоть неважно,
Но все-таки ебу.
К сентябрю, несмотря на мучительно медленный темп работы, Антон уже ясно видел перспективу своей новой пьесы. Жену Станиславского он предупреждал: «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс, и я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича». Станиславский же делился своими опасениями с сестрой Зинаидой: «Могу себе представить, это будет нечто невозможное по чудачеству и пошлости жизни. Боюсь только, что вместо фарса опять выйдет рас-про-трагедия. Ему и до сих пор кажется, что „Три сестры“ — это превеселенькая вещица»[585].
Как и «Чайка», пьеса «Вишневый сад» имеет подзаголовок «комедия», хотя речь в ней идет о расставании с иллюзиями и о разрыве семейных связей. В ней слышатся отголоски раннего Чехова и его личных душевных переживаний. Цветущие вишневые деревья в первом действии навевают воспоминания о проведенном в Таганроге детстве; вишневые деревья, попавшие под топор в действии четвертом, вызывают в памяти Мелихово, перешедшее в руки безжалостного дельца Коншина. Хозяева поместья, как и герои самой первой пьесы Чехова, вынуждены пустить свой дом с молотка. Купец Лопахин, который советует героям распродать землю под дачные участки, а затем предает их на аукционе, несет в себе черты Гавриила Селиванова двадцатилетней давности с его имущественными претензиями к Чеховым. Звук лопнувшей струны, пронизывающий первое и четвертое действия, впервые прозвучал в степных рассказах 1887 года. Обтерханный студент Трофимов совсем недавно проходил под видом Саши в рассказе «Невеста». Беспечная Раневская, выдающая замуж свою дочь ради спасения поместья, позаимствовала словечки и уловки у героини рассказа «У знакомых». Довершить сюжет Чехову помогли его друзья: Гаев и Раневская теряют поместье, как Киселевы потеряли Бабкино, а гувернантка Шарлотта и слуги в барском доме переместились из пестрого чеховского окружения в подмосковной Любимовке.