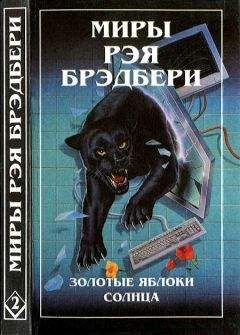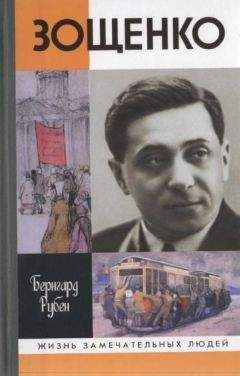…Русское литературное большое гнездо и малые гнезда живы, живут и яятся.
Началось с 1920 года, когда в оледенелом гнезде в голод и темь пришла весна — как-кая! — не забыть.
Стали о ту пору жениться — недалеко ходить, у Назарыча, уполномоченного нашего комбеда, брат женился, — завелись женихи и невесты, и писатели поставили станок.
И к следующей весне Дом Искусств и Дом Литераторов огласился новыми молодыми птичьими голосами, — и эту весну не забыть.
Самый изобразительный и охватистый — большак — Б. А. Пильняк (Вогау), он и старше всех, уж книгу издал, сидит в Коломне под Москвой у Николы на Посадьях, корову купил. На Пасху снялся в Петербург — А. М. Горький вывез! — привез роман и повесть «Ивана-да-Марью».
В Петербурге Серапионовы братья кучатся: М. М. Зощенко, Н. Н. Никитин, М. Л. Слонимский, К. А. Федин, Вс. Иванов, Л. Н. Лунц, И. А. Груздев, Вл. С. Познер. Братья младше Пильняка — у Пильняка и дочка растет Наташа и еще ожидается — и написали они не столько: кто по два, кто по три рассказа, но всякий по своему, во что горазд.
Самый из всех хитрящий — у него и мордочка остренькая — Лунц, и никто так не подцепит тупь, глупь и несообразицу: «Исходящая № 3749» — вот его рассказ. И тих и скромен, только что на шоколад падок, Слонимский, а рассказ его — сущий разбойный. Оба на Гофмане верхом покатались!
«Сад» Федина — рассказ подгородний: нежности посолонной, а тема нынешняя.
М. Зощенко — из самых «Мертвых душ» от Коробочки и «Скверного анекдота»: «Старуха Врангель» — петербургские и уездные рассказы его — подковыр Гоголя и выковыр Достоевского.
У Зощенки — запад — польское нашествие, Пильняк — юго-восток — страх Деникинский.
От словных слов — Никитин: его «Кол», «Подвал», «Ангел Аввадон» — низ слов.
И до чего это странно — какие общие семена! — Никитин, бегая и ноши нося по Петербургу, рассказывает в своем «Коле» про то же, про что Неверов, в Самаре безвыездно, в своей комедии «Смех и горе» —
Поп — пирог, извините, с яйцами! — и уездком самохотчик — нам звуков не надо!
Наше доморощенное — несуразное! — и никаким ты его колом не выбьешь и крестом не взять, ни дубьем, ни чека-чисткой…
1 XII 1921. Берлин. ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН «Серапионовы братья»
Длинная, с колоннами, комната в Доме Искусств: студия. И тут они — вокруг зеленого стола: тишайший Зощенко; похожий на моего чудесного плюшевого мишку — Лунц; и где-то непременно за колонной — Слонимский; и Никитин — когда на него смотришь, кажется, что на его голове — невидимая бойкая велосипедная кэпка. В зимние бестрамвайные вечера я приходил сюда с Карповки, чтобы говорить с ними о языке, о сюжете, о ритме, об инструментовке: в темные вечера они приходили сюда от Технологического, от Александро-Невской Лавры, с Васильевского. Здесь они все росли на моих глазах — кроме Вс. Иванова и К. Федина: эти пришли со стороны; и Каверина я помню только изредка в последние дни студии.
Никому из нас, писателей старших, не случалось пройти через такую школу: мы все — самоучки. И в такой школе, конечно, всегда есть опасность: создать шеренгу и униформу. Но от такой опасности «Серапионовы братья», кажется, уже ушли: у каждого из них — свое лицо и свой почерк. Общее, что все они взяли из студии, — это искусство писать чернилами девяностоградусной крепости, искусство вычеркивать все лишнее, что, быть может, труднее, чем — писать.
Федин — самый прочный из них: пока он все еще крепко держит в руках путеводитель с точно установленным расписанием (без опаздываний) старого реализма и знает название станции, до которой у него взят билет.
Остальные — все более или менее сошли с рельс и подскакивают по шпалам; неизвестно, чем они кончат: иные, может быть, катастрофой. Это — путь опасный, но он — настоящий.
Из семи собранных в 1-м альманахе «Серапионовых братьев» — наиболее катастрофичны трое: Лунц, Каверин и Никитин.
Лунц — весь взболтан, каждая частица в нем — во взвешенном состоянии, и неизвестно, какого цвета получится раствор, когда все в нем осядет. От удачной библейской стилизации («В пустыне») он перескакивает к трагедии, от трагедии — к памфлету, от памфлета — к фантастической повести (я знаю эти его работы). Он больше других шершав и неуклюж и ошибается чаще других: другие — гораздо лучше его слышат и видят, он — думает пока лучше других; он замахивается на широкие синтезы, а литература ближайшего будущего непременно уйдет от живописи — все равно, почтенно реалистической или модерной, от быта — все равно, старого или самоновейшего, революционного — к художественной философии.
Тот же уклон чувствуется и у Каверина. В «Хронике города Лейпцига» это не так заметно, как в других его, еще не напечатанных вещах. Каверин взял трудный курс: на Теодора Гофмана, — и через эту гору пока не перелез, но можно надеяться — перелезет. Если Зощенко, Иванов, Никитин работают больше всего над языковым материалом, над орнаментикой, то Каверина явно занимают эксперименты сюжетные, задача синтеза фантастики и реальности, острая игра — разрушать иллюзию и снова создавать ее. В этой игре — он искусен. Но, увлекаясь ею, он подчас перестает слышать слова, — фразы выходят немножко раскосы. Впрочем (как недавно сообщила д-р М. Хорошева у меня, в присутствии «Серапионовых братьев»), это излечивается очень легко. Есть у Каверина одно оружие, какого, кажется, нет ни у кого из других «Серапионовых братьев», — это ирония (профессор в «Хронике города Лейпцига», начало VI, начало VII главы). На наших российских полях этот острый и горький злак до сих пор произрастает как-то туго; тем ценнее попытка посеять его и тем больше своеобразия дает она лицу автора.
Зощенко, Вс. Иванов и Никитин — «изографы», фольклористы, живописцы. Новых архитектурных, сюжетных форм они не ищут (впрочем, у Никитина — последнее время заметно и это), а берут уже готовую: сказ.
Зощенко применяет пока простейшую разновидность сказа от первого лица. Так написан у него весь цикл «Рассказы Синебрюхова» (рассказ в альманахе — из этого цикла). Отлично пользуется Зощенко синтаксисом народного говора: расстановка слов, глагольные формы, выбор синонимов — во всем этом ни единой ошибки. Забавную новизну самым стертым запятаченным словам он умеет придать ошибочным (как будто) выбором синонимов, намеренными плеоназмами («пожить в полное семейное удовольствие», «на одном конце — пригорок, на другом — обратно — пригорок», «в нижних подштанниках»). И все-таки долго стоять на этой станции Зощенко не стоит. Надо трогаться дальше, — пусть даже по шпалам.