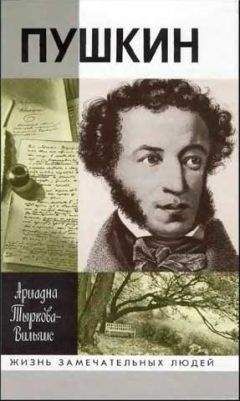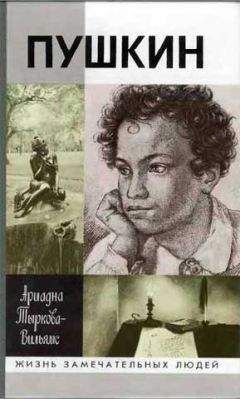Щеголев построил свои доводы на анализе анонимного диплома. В нем он нашел намеки не на Дантеса, а на Николая. То, что Нарышкин назван великим магистром ордена рогоносцев, Щеголев толкует как напоминание о связи Александра I с Нарышкиной. С той поры прошло более 20 лет. Уже были забыты романы предыдущего царствования, но Щеголев пишет[72]: «Мне думается, что составитель диплома и продолжения хотел бы тоже по царственной линии»[73]. Почему думается? Далее еще более произвольное развитие этой совершенно произвольной царственной линии. Это уже не литературное исследование, это политический памфлет, сочиненный для вящего опорочения одного из Романовых.
В подкрепление своей легенды Щеголев пишет: «Пушкина и ей подобные красавицы фрейлины и молодые дамы двора не только ласкали высочайшие взоры, но и будили высочайшие вожделения. Для придворных красавиц было величайшим счастьем понравиться монарху и ответить на его любовный пыл». При этом Щеголев цитирует двух писателей, весьма от русского двора далеких, Добролюбова и француза Галлэ де Культур, который провел в России несколько лет, как секретарь князя А. Н. Демидова сан Донато. Потом он издал в Париже книгу «Царь Николай и Святая Русь». Книга вышла в 1855 году, в момент повальной русофобии, поднявшейся во Франции и в Англии в связи с Крымской войной. Русского Царя старались изобразить как некое азиатское чудовище. Обычно Щеголев давал критическую оценку источникам, которыми пользовался, но о книге Галлэ де Культур он только говорит – «острая и любопытная книжка, при некоторых и немалых неточностях». На самом деле это книга невежественная, легкомысленная. Особенно во всем, что касается Пушкина. В ней повторяется вздорный рассказ о том, как генерал Милорадович будто бы высек Пушкина по приказу Александра I. Эта злая и бессмысленная петербургская сплетня в свое время чуть не довела молодого Пушкина до самоубийства. А француз выдает это за факт и на нем строит всю дальнейшую психологию поэта. По его словам, Пушкин этим сеченьем был так потрясен, что «добровольно осудил себя на ничтожество (nean) и весь остаток жизни провел в борьбе с собственными мыслями. Он смирился и, как орел с подрезанными крыльями, стал летать низко, перестал парить над вершинами и океанами».
Вот на этого пошлого автора, который даже дату смерти Пушкина не мог правильно указать и уморил его 2 января 1838 года, пушкинист Щеголев нашел возможным опереться для характеристики нравов высшего светского общества и Царя, о котором француз знал так же мало, как и о Пушкине. «Царь самодержец, – писал Галлэ де Культур, – в своих любовных историях, как и в остальных своих поступках. Если он отличает женщину на прогулке, в свете, в театре, он говорит одно слово дежурному адъютанту… Нет примера, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтительной признательности.
«Неужели царь никогда не встречает отпора со стороны своих жертв?» – спросил я одну даму, любезную, умную и добродетельную, которая сообщила мне эти подробности.
«Никогда», – ответила она мне с выражением крайнего изумления.
При этом добродетельная дама пояснила любознательному иностранцу:
«Мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом».
Даже если бы это было так, это еще не доказывает, что Пушкина была в связи с Царем, и Щеголеву, внимательному исследователю той эпохи, не следовало бы цитировать, да еще без всяких оговорок, такое огульное поношение русских женщин той эпохи. Он много занимался декабристами, не мог он не знать, какое высокое понятие о чести было присуще тогдашнему просвещенному русскому дворянству, Раевским, Вяземским, самому Пушкину, каким высоким сознанием личного достоинства и долга были исполнены многие женщины придворной среды, из которой вышли жены декабристов. Но Щеголев увлекся возможностью бросить лишний комок грязи в одного из Романовых и сделал это за счет Пушкина, не побоявшись его запачкать. Будь эта догадка верна, она нанесла бы несравненно больший ущерб репутации поэта, чем репутации Царя.
Со времени смерти поэта прошло сто лет. Никто из друзей и недругов Пушкина, никто из современников и многочисленных исследователей никогда не обмолвился ни одним словом, не напал ни на какие данные о связи Натальи Николаевны с Царем. Об этом не говорит ни один из тоже достаточно многочисленных врагов Николая I, ни один из недоброжелателей поэта, так охотно возводивших на него всякие поклепы. Герцен, беспощадный, непримиримый враг Николая I, оставил много рассказов о недостатках и пороках этого Государя, но нигде у него нет даже намека на то, что Щеголев назвал – по царственной линии. А Герцен и в Москве, и в эмиграции встречал многих близко знавших Пушкина.
Есть еще один и для меня решающий довод против щеголевской легенды. Это отношение близких, преданных ему людей к его вдове. Его друзья были люди порядочные, морально очень брезгливые. Наталья Николаевна не могла бы ждать от них снисхождения, если бы в основе травли, погубившей ее мужа, лежала ее связь с Царем. Между тем после дуэли и после смерти поэта они сохранили к ней добрые чувства, старались ее поддержать. Последние два дня жизни Пушкина княгиня Вера Вяземская почти не отходила от него и от его жены, а княгиня Вера была женщина до резкости, до беспощадности прямая. Дочь Карамзина, княгиня Е. Н. Мещерская, большой друг Пушкина, тогда же писала: «Я все это время была с ней, прежде всего, потому что это доставляло мне утешение, хотя бы таким путем отдать дань памяти Пушкина, и еще потому, что, право, судьба этой молодой женщины так ужасна, что заслуживает сочувствия… Минутами ее просто раздирают угрызения совести» (1837).
Отношения между Николаем I и Пушкиным были очень сложные, для поэта очень трудные. Десять лет прошло с тех пор, как только что коронованный молодой Царь снял с него опалу. С тех пор многое изменилось в жизни, в них обоих. Прошла первая, наивная влюбленность Пушкина в Николая. Но взаимный интерес, более дружественный со стороны Пушкина, оставался. Женитьба и камер-юнкерство связали Пушкина со двором; он часто стал встречаться и разговаривать с Царем. Но по вольнолюбивой, горделивой природе своей он не мог стать царедворцем. Придворные обязанности его тяготили, светские выезды ему давно надоели. Без средств, с репутацией неисправимого либерала, с постоянной, неудовлетворенной потребностью в уединенной, сосредоточенной работе, он только ради красавицы жены таскался по балам. Он шутливо писал ей: «Одно мне выгодно от отсутствия твоего, что не обязан на балах дремать, да жрать мороженное». Он хотел уехать в деревню, Бенкендорф не пустил. Внешне Царь был приветлив, но камер-юнкерство и прочитанное письмо заставили Пушкина насторожиться, оставили в нем глубокую царапину. С тех пор Пушкин так и остался настороже.