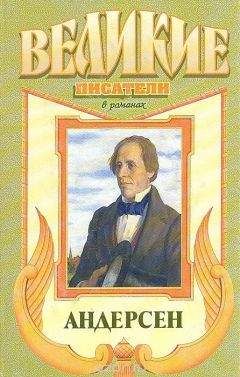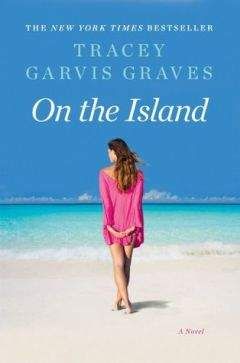Прогуливаясь по саду, он верил, что вернётся к нему и возлюбленная муза. И мысли о её возвращении помогали жить.
Но бывали и другие вечера, когда казалось, что уже никогда не вернётся она, отпрощалась. Отлетела. Отпела. И он — отписал. Давно отчалил к берегу, где нет муз. И начинало давить под ложечкой. Колол правый бок. Изъяснялась языком боли подагра.
В конце лета 1874 года он снова на вилле Ролигхед. В мире уже не было дома роднее, даже у Коллинов, наследников его умершего второго отца. На вилле преданных друзей он очутился 9 августа. Жить ему оставалось чуть меньше года. Уже прозвенел будильник смерти — там, под ложечкой. Нервы его вконец истончились... Приступы смертельного одиночества приходили всё чаще и чаще... Он меньше и медленней ходил: подагра. Да ещё лихорадка дала о себе знать. В августе он чувствовал всеми костями январский холод — Ледяница и Снежная королева догнали его посреди августа, просквозили насквозь. Он уже не мог лежать в постели, если она не была прогрета. Всё это унижало его, и он не верил больше, что болезнь отступит.
— Я жду своего часа, — отвечал он тем, кто говорил о будущем здоровье и будущих сказках. Сказки для него теперь были символом здоровья, а здоровье — символом сказки. Когда он гладил корешки книг, то на несколько минут чувствовал себя лучше.
Его всё чаще знобило, и он со страхом думал о том, что впереди зима.
Но — как это ни странно: конец осени принёс значительное облегчение. Он относил это к переменчивости своей натуры.
Он гулял уже в саду виллы Ролигхед и не просил нагреть постель. Катался в карете, порой смеялся. В минуты откровенности говорил:
«Поверьте мне, я не проживу более года; запишите мои слова, и когда я умру, вы увидите, что я не ошибся. Но, положим, я проживу дольше, достигну восьмидесяти лет; конечно, этого не случится, но если бы и случилось... Боже мой! Боже мой! Ведь это всё равно, что ничего. Уверяю вас, что если бы мне было теперь тридцать лет от роду и я стоял бы на той степени развития, на какой стою в настоящую минуту, я создал бы нечто такое, что прославило бы имя моё на весь мир; и знаете ли, что бы я сделал тогда от радости? — я прокатился бы колесом вдоль всей улицы».
27 августа на вилле был обед. После тоста, в котором Андерсену пожелали стать снова молодым:
— Вернитесь к своему тридцатилетнему возрасту, но не ранее, потому что это лучшие ваши годы, мы закричим тогда: стой!
Он ответил с улыбкой:
— Я полагаю, что Господь Бог сам мне закричит скоро — стой! — и я переселюсь в тот неведомый, заоблачный мир, о котором мы имеем очень мало сведений и которым теперь мои мысли сильно заняты. Попав туда, я буду пламенно желать послать моим друзьям о себе известие. Говорят, я моими сочинениями сделал много добра людям, распространив между ними нравственные и полезные идеи; я был бы очень счастлив, если бы мог с того света, куда скоро перейду, прислать отрадную, живительную весточку всем тем, кто останется на земле.
От его слов холодок пробежал по столу.
Приближалась зима. Страдания снова посетили Андерсена. Он становился невыносимым: раздражительность, мрачность. Доктора признали рак печени. Андерсену не сказали об этом.
— Ну, какая у меня болезнь? Что вы скрываете от меня? — спрашивал он чуть ли не крича и всматривался в лицо фру Мельхиор. Но она не выдала своего разговора с эскулапами.
Он встречал гостей, как правило, в кресле. Иногда засыпал при них. Сон всё чаще приходил к нему днём, а не ночью, словно потерял чувство времени. Когда Андерсен лежал, ему было легче. Он уже быстро уставал от посетителей. Они часто раздражали его, ведь в них была активная жизнь, а он умирал.
Только в минуты интересующих его имён он оживал, увлекательно говорил. Порой, ходил в ферейн студентов. Здесь, рядом с молодостью, он впитывал здоровье. Ему было лестно, что все эти молодые люди читали его в детстве, и было приятно чувствовать, что и внуки их будут читать его сказки. Это было странно: здесь, в ферейне, будут сидеть люди, которых он никогда не узнает, но они будут помнить его благодаря сказкам, а их деды станут говорить: «Эко, чем удивили, я вот с самим Андерсеном в ферейне беседовал — и не хвастаюсь».
В зимний сезон он несколько раз выбирался и в театр. Но тот стал другим, словно с соками жизни Андерсена и из него ушли соки. Он написал несколько стихотворений: словно снег сжалился над ним и продиктовал ему белые строфы. Поэт смотрел на строчки, как на детей. Они были доказательством, что он ещё может писать. Но все написанные стихи он бы обменял на одну сказку.
Он всё надеялся, что вслед за стихами, как раньше, грянут, расцветут среди сугробов сказки, придут, помогут ему, и, как на крыльях, он поднимется на них к солнцу своего семидесятилетнего юбилея. Но мысли эти быстро растворялись в диктатуре подагры.
Иногда он продолжал трудиться над «Праздником в Кенильворте» или «Историей моей жизни».
Рождались безжизненные строчки, он сам хотел зачеркнуть их, но было жалко, ведь они родились в таких муках.
Оставался дневник — наследник совести. Он заносил в него мельчайшие подробности страданий, маленьких событий, воспоминаний...
Он ещё не потерял охоту к чтению. Книги сопровождали его повсюду, и иногда ему казалось, что самое ценное в его жизни были книги и хорошо бы их все унести в могилу, чтобы перечитать на том свете. Ему представлялось, что он ходил по книгам, дышал книгами, беседовал с книгами, летал на книгах как на ковре-самолёте, пел с ними вместе, ездил на них в Италию, далее плавал на них по морю... Книги, а не звёзды светили ему по ночам...
Особенно хотелось перечитать произведения Эленшлегера в прозе. Его тянуло к Востоку. Он начал чтение детства с «Тысячи и одной ночи» и теперь изучал историю Магомета и историю Востока, словно мог отправиться в сказочные страны, в надежде раздобыть там сказки и для себя.
В конце зимы он бывал на обедах у знакомых, но больше молчал, чем говорил. А ведь было время, когда он не мог умолкнуть, даже если сильно хотел этого.
Но все знали — это молчит Андерсен. И рядом с его молчанием жить было сказочней.
Он обожал переписку. Сам рассылал множество писем и получал громадное их количество. Письма, как птицы в своих клювиках, приносили новости, сюжеты, песни. Расширяли горизонты его жизни. Он обожал их получать, распечатывать, с тревожным сердцем думать: что там, под твёрдой белизной конверта, свеженькая травка новостей или роза любви. Где они, те далёкие лепестки.
Он носил на груди, в кожаном мешочке, одно старое письмо. Оно грело его более других. Может быть, только его горячие строки до сих пор и согревали его. Нет, впрочем, нет, и голос Генриетты Вульф согревал его, и плавные шаги Луизы Коллин.