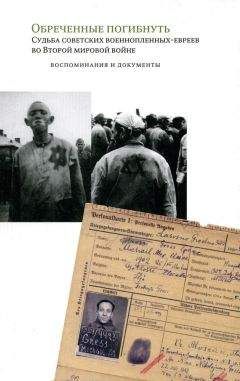Отчий дом и «Евгений Онегин» (Вместо эпилога)
Как-то, просматривая книги нашей домашней библиотеки, брат Арон на обложке одного красочного путеводителя по Москве обнаружил такую надпись:
«Дорогому папке и дедушке в День Победы от нас. Элла, Алик, Иришка».
И дальше:
«Пусть всегда над Москвой будет мирное небо, много цветов, а в Большом театре можно будет слушать „Евгения Онегина“».
Не правда ли, странное пожелание. Почему в Большом театре и, главное, почему именно «Евгения Онегина». Удивился этому и Арон. Он спросил меня об этом. Я прочитал надпись и отчетливо вспомнил один эпизод многолетней давности. Эпизод очень знаменательный для меня. Думаю, что о нем давно все забыли, а я его забыть не могу. И не только сам забыть не могу, но не могут о нем забыть и мои дети, и, надеюсь, будут помнить о нем мои внуки. А было вот что…
Ранним зимним утром 1946 г. из электрички на станции Царицыно вышел человек. На нем была потрепанная зеленая финская шинель, старая армейская шапка, драные башмаки и котомка за плечами. Человек искал улицу Кошкина. На улицах было пустынно. Городок мирно спал. Он забрел на Бирюлевскую улицу (расположение улиц он немного помнил, так как до войны однажды бывал здесь). Спросить было некого. Но вот у одной калитки стоит миловидная старушка. Она сочувственно спрашивает:
— Что ищешь, милок?
— Улицу Кошкина, бабушка.
Она показала ему, куда идти.
— С войны, милый?
— С войны, бабушка.
— Ну, иди с Богом, милый!
На глазах старушки слезы. Видимо, о многом напомнил он ей.
Быстрым шагом пошел он на улицу Кошкина, нашел № 28а. Тихо открыл калитку. Прошел в глубину к белому домику. Присел на скамеечку на старенькой террасе и облегченно вздохнул.
Так вернулся я в отчий дом после почти семи страшных лет разлуки. Беленький домик спокойно спал. Я не решался нарушить его покой, да и хотелось немного прийти в себя и оттянуть время этой долгожданной встречи. Но терпение лопнуло, и я тихонько постучал в кухонное окошко. Меня услышали. На террасу выбежала мама. Она стала меня обнимать и залилась слезами. О, Боже мой, как же она изменилась, моя мама. Я оставил ее еще моложавой, бодрой, с черными, с проседью волосами. Теперь я увидел совершенно седую старушку, сморщенную и маленькую. Да, нелегкие годы были прожиты. Потом вышел отец. Он тоже сильно сдал. В моем воображении он был подтянутым и стройным, быстро реагирующим на все. Теперь это тоже был уже пожилой, много переживший человек. Страшные годы войны взяли свое. Было много слез, вопросов, воспоминаний. Весь белый домик был взбудоражен. Среди обитателей домика в это время были фронтовики — Миша и Лера, о которых я много слышал, но не знал лично. День прошел в суматохе. Назавтра шумная Лера среди разговоров и смеха (она умеет смеяться) вдруг весело заявляет: «Сегодня мы идем в Большой театр!» (видимо, проблемы билетов тогда не было). Это заявление относилось и ко мне. Я был ошарашен и сражен. Большой театр. Шутка ли сказать. Я, выросший в местечке, проведший свою юность в провинциальном городке, мог ли я мечтать о прославленном театре, не говоря уже о том, что в эти страшные семь лет не смел даже и думать не только о Москве, да еще о Большом театре, но даже о том, что когда-либо увижу кого-нибудь из родных. И тут такое категоричное заявление: «Идем в Большой театр!».
Я начал робко возражать. Куда мне в таком виде: в драной гимнастерке, в моих огромных башмаках в Большой театр. Но не тут-то было. Лера ничего не желала принимать во внимание. Она тут же вытащила Мишенькин черный костюм, его же рубашку и галстук. Нашлись и туфли. Делать было нечего. Я переоделся. Посмотрел в зеркало и не поверил глазам своим. Я не узнал себя. Ведь целых пять лет я ходил в лохмотьях. Одевал на себя все, что попадалось под руку — лишь бы было тепло. А тут стоит франт в черном костюме, при галстуке. Не сон ли это? Кругом все смеялись. Лера весело щебетала. А у меня на глазах были слезы. Плакали и мои родители.
И вот наступил вечер. Большой театр. Ярко сверкают величественные люстры. Сияют золотом партер и ярусы. Кругом нарядно одетая публика. Слышен оживленный гомон, женский смех. Все это настолько необычно и контрастно, что кружится голова. Мысленно в голове проносится тот ад, в котором я жил все эти страшные годы. Голод, холод, вши, ночлег на втором ярусе нар. Подстилка — лохмотья своей одежды. Одеяло — такие же лохмотья. Вечное недоедание, вплоть до собирания очисток. Работа всякая: тяжелая, грязная, даже чистка уборных и помоек. Издевательства охранников и начальства. Работа под землей в шахте при постоянной угрозе обвала. Откопанный друзьями из-под завала заводской трубы… Да разве можно забыть весь этот кошмар.
И тут этот сверкающий зал… Конечно, трудно сейчас словами передать мое тогдашнее состояние.
Но вот гаснет свет. Мы сидим где-то в первых рядах партера. Давали «Евгения Онегина». Звучит чарующая музыка Чайковского (я всегда любил эту музыку). Дивные декорации, шикарная одежда актеров… Как недоступно было все это для меня все эти годы. С неослабным вниманием я слежу за тем, что происходит на сцене. Вот сцена дуэли. Замертво падает Ленский. Очень трогательно. Но все это так изящно и даже смерть такая… красивая. И в памяти возникают другие картины и другие смерти.
1942 г. После полугодового «лечения» в госпитале для пленных я подлежу выписке и отправке на лесоповал. Стоит суровая зима. При моем здоровье и моей одежде это верная гибель. И опять помогли добрые люди. Меня пожалела очень добрая финская старшая сестра. Она оставила меня работать санитаром в госпитале. Это, конечно, не мед, а адский труд. Но зато в тепле и под крышей. Надо было обслуживать раненых, умирающих советских солдат и офицеров (выносить горшки, мыть полы и пр.). Но самое страшное — каждое утро выносить трупы. А умирали десятками от голодного поноса. Каждое утро в коридоре лежали вымазанные с головы до ног, страшные, пахнущие трупы-скелеты. Их надо было раздеть, обмыть, погрузить на носилки и вынести в сарай. Там уже лежали кучи таких же трупов с открытыми глазами и немым вопросом: «За что?». (Не понимаю сейчас, как я мог все это выдержать). Затем ежедневно их увозили грузовиками и хоронили навалом в общих могилах. Все это пронеслось у меня в голове, когда увидел и услышал эту красивую, изящную смерть Ленского.
…А пока заливаются скрипки. Звучат чудесные арии, идет изумительное представление. Сейчас, когда после этого прошло уже много-много лет, трудно словами описать те чувства, обуревавшие меня тогда, после окончания спектакля. Но, как мне кажется теперь, чувства эти можно выразить двумя словами: потрясение и благодарность. Потрясение от всего увиденного и услышанного. От того резкого контраста, который так сильно отложился в душе моей. Благодарность Лере за это испытанное потрясение, за те незабываемые ощущения, которые я тогда испытал.