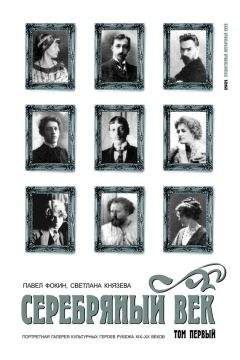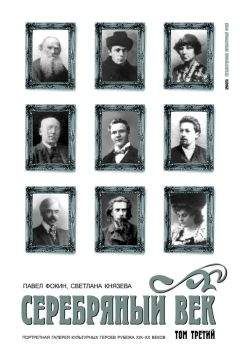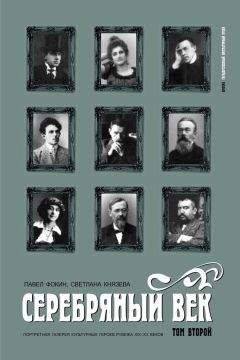Не тем был силен Ершов, что для него была безразлична тесситура. Главное в его искусстве заключалось в изощренной способности создавать настроение буквально каждой фразой, потому что, независимо от той или иной ее звучности, фраза эта всегда была наполнена чрезвычайно глубоким переживанием, выразительность ее, облеченная в строго художественную форму, неизменно была полна такой яркости и влекущей неотразимости, такой эмоциональности, что между артистом и слушателями немедленно устанавливалось самое тесное духовное общение. В этом отношении владение музыкальной фразой доведено было у Ершова до высшей степени совершенства. В устах Ершова омузыкаленное слово приобрело, совершенно как у Стравинского, но в своем индивидуальном плане, всю полноту художественно-пластической выразительности, всю присущую ему силу и всю глубину чувства, о котором только мог мечтать композитор. Это безукоризненное чувство слова на основе музыки привело впоследствии Ершова к овладению всеми чарами вагнеровского творчества, ибо Вагнера мало только хорошо петь, надо еще уметь его музыкально рассказать.
В отношении драматической игры в Ершове всегда поражала его изумительная способность сживаться с изображаемым им лицом, и это резко выделяло его из общей артистической массы. Каждая воплощенная Ершовым сценическая фигура непременно носила индивидуальный оттенок, и каким он представал перед зрителем сегодня, например, в роли Садко, таким уже не мог показаться завтра в роли Тангейзера. Его могучий природный темперамент, конечно, везде делал свое дело, но в каждом данном случае являлись совершенно другие типы» (Э. Старк. Самородок).
ЕСЕНИН Сергей Александрович
21.9(3.10).1895 – 28.12.1925
Поэт. Стихотворные сборники «Радуница» (Пг., 1916; 2-е изд., доп., М., 1918), «Голубень» (Пг., 1918; 2-е изд., М., 1920), «Преображение» (М., 1918), «Сельский часослов» (М., 1918), «Трерядница» (М., 1920), «Исповедь хулигана» (б. м., 1921), «Стихи скандалиста» (Берлин, 1923), «Москва кабацкая» (Л., 1924), «Русь Советская» (Баку, 1925), «Страна Советская» (Тифлис, 1925), «Персидские мотивы» (М., 1925). Книга «Ключи Марии» (М., 1920).
«Я чувствую себя хозяином в русской поэзии и потому втаскиваю в поэтическую речь слова всех оттенков, нечистых слов нет. Есть только нечистые представления. Не на мне лежит конфуз от смелого произнесенного мной слова, а на читателе или на слушателе. Слова – это граждане. Я их полководец. Я веду их. Мне очень нравятся слова корявые. Я ставлю их в строй как новобранцев. Сегодня они неуклюжи, а завтра будут в речевом строю такими же, как вся армия» (С. Есенин. Вступление к сборнику «Стихи скандалиста»).
«Робкой, застенчивой, непривычной к эстраде походкою вышел к настороженной аудитории Сергей Есенин. Хрупкий девятнадцатилетний крестьянский юноша, с вольно вьющимися золотыми кудрями, в белой рубашке, высоких сапогах, сразу, уже одним милым, доверчиво-добрым, детски-чистым своим обликом властно приковал к себе все взгляды. И когда он начал с характерными рязанскими ударениями на „о“ рассказывать меткими, ритмическими строками о страданиях, надеждах, молитвах родной деревни („Русь“), когда засверкали перед нами необычные по свежести, забытые по смыслу, а часто и совсем незнакомые обороты, слова, образы, – когда перед нами предстал овеянный ржаным и лесным благоуханием „Божией милостью“ юноша-поэт, – размягчились, согрелись холодные, искушенные, неверные, темные сердца наши, и мы полюбили рязанского Леля…» (З. Бухарова. Краса // Петроградские ведомости. 1915, 4(17) ноября).
«Есенина я увидел впервые 28 марта 1915 года…В зале армии и флота был большой вечер поэтов…Не то в перерыве, не то перед началом чтений я, стоя с молодыми поэтами (Ивневым и Ляндау) у двери в зал, увидел подымающегося по лестнице мальчика, одетого в темно-серый пиджачок поверх голубоватой сатиновой рубашки, с белокурыми, почти совсем коротко остриженными волосами, небольшой прядью завившимися на лоб. Его спутник (кажется, это был Городецкий) остановился около нашей группы и сказал нам, что это деревенский поэт из рязанских краев, недавно приехавший. Мальчик, протягивая нам по очереди руку, назвал каждому из нас свою фамилию: Есенин.
…На торопливые наши расспросы он отвечал очень охотно и просто…Говорил он о своих стихах и надеждах с особенной застенчивой, но сияющей гордостью, смотря каждому прямо в глаза, и никакой робости и угловатости деревенского паренька в нем не было. Но в произношении его слышалось настойчивое „оканье“ и нет-нет попадались непонятные, по-видимому, рязанские словечки, звучащие, казалось нам, пленительной наивностью.
…Чем больше он говорил, тем больше сияли окружившие его кольцом умиленного внимания несколько человек. И не только потому, что принадлежали к сентиментальному тылу, а потому, что с первых минут знакомства ощутили в пришедшем, прослушав на ходу несколько коротких его стихов, новое для них очарование свежести и мгновенно покоряющей непосредственности. В нем повеяло им какое-то первородное, но далекое от всякой грубости здоровье. В нем так и золотилась юность – не то тихая, не то озорная, веющая запахом далекой деревни, земли, запах которой показался почти спасительным. И весь облик этого неизвестного худенького чужака, ласковый и доверчивый, располагал к нему всякого, кроме заядлых снобов, с которыми ему пришлось столкнуться позднее» (В. Чернявский. Три эпохи встреч).
«Многие, пытаясь определить облик Есенина того времени, сходились на том, что это – Лель из „Снегурочки“. Первое впечатление действительно роднило его с Лелем, но когда доводилось узнать его ближе, то сравнение казалось внешним и далеко не полным. Скорее в поэте было что-то от русской бунтующей души. То был он ласков, а то вдруг задумчиво-грустен. То озорно весел или даже деловито хитер. Но во всех своих проявлениях был правдив и искренен» (В. Комарденков. Дни минувшие).
«Читал [стихи. – Сост.] он с каким-то самозабвенным упоением, мерно покачиваясь всем своим гибким телом, и в середине чтения, точно боясь, что упадет, судорожно сжимал обеими руками спинку стула. В самом финале он отпускал ее. И кончал читать, не держась ни за что, как бы оторвавшись от земли и пребывая в свободном полете. Это впечатление плавного парения усугублялось тем, что манере есенинского чтения была присуща некая волнообразность ритмического колебания вверх и вниз, неотразимо действовавшая на слушателей. Когда Есенин читал, глядя на него, мне всегда казалось невероятным, что где-то глубоко внутри этого щуплого с виду паренька с лукаво бегающими глазками и типичной повадкой деревенского жителя струится неиссякаемый родник кристально чистой поэзии. В самом характере есенинского чтения была особая, свойственная ему певучесть. И конец каждого произнесенного им слова, прежде чем замереть, вздрагивал, как звук туго натянутой струны…