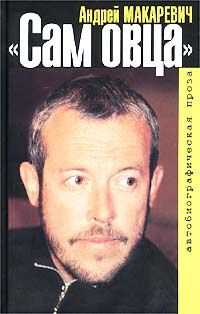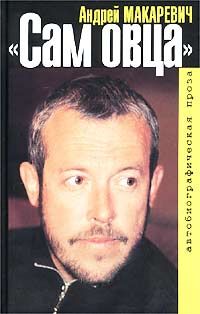Была очень морозная, снежная и солнечная зима, хутор, когда-то большой, стоял наполовину брошенным. Население состояло из Макаревичей и Антончиков, тоже наших родственников. Деда моего уже никто не помнил – слишком много лет прошло. А еще на хуторе жили евреи – до войны, и было их процентов шестьдесят. Немцы вывезли и убили всех до одного. Белорусов не тронули.
В Погодино мне показали храм, настоятелем которого был отец Антоний Усаковский, мой прадед. При храме отец Антоний построил приходскую школу, в которой познакомились его дочка Лида (боя бабушка Лидия Антоновна) и мой дед Григорий Андреевич – и она, и он там преподавали.
Во время Первой мировой отец Антоний организовал обслуживание эшелонов с ранеными – они останавливались в Погодино на десять минут. За это время успевали перевязать и накормить весь состав – сколько их там было?
После революции отец Антоний был посыльным, несколько раз выполнял поручения чуть не самого патриарха, и году в восемнадцатом-девятнадцатом следы его теряются – боюсь, прадедушку моего расстреляли. Все собираюсь зайти в архив Лубянки и попытаться что-нибудь разузнать. Все собираюсь, собираюсь…
Деда своего Григория я не застал – он умер до моего рождения (как и второй мой дед – Марк, мамин отец). Говорят, дед Григорий был очень строгий, неулыбчивый человек пуританского склада. В семье его слушались и боялись. Мрачность эта, надо сказать, не передалась моему отцу ни в коей мере. До революции дед работал на Александровской железной дороге (у меня сохранилось его удостоверение личности тех лет), потом был учителем, а после революции стал профсоюзным деятелем. В тридцать седьмом году случилась вещь невероятная – деда арестовали, продержали в камере несколько суток и вдруг выпустили, так ни разу и не допросив.
Мой отец был практически непьющим человеком, но несколько раз, когда он немного выпивал, он задавал мне один и тот же вопрос: не считаю ли я его старым? Когда я однажды поинтересовался, почему его это так волнует, он сказал, что его отец всегда казался ему очень старым человеком, а разница в возрасте у нас была примерно одинаковая.
(Недавно я поймал себя на том, что задаю этот вопрос своему сыну: не старый ли я? «Так, староватый», – дипломатично ответил этот негодяй.)
Мой отец никогда не казался мне старым, хотя ровесником своим я его тоже, конечно, не ощущал. Постарел он вдруг сразу в последние годы жизни – после смерти матери.
За мамой он ухаживал со школы – они оба учились в 57-й школе, рядом с нашим домом на Волхонке, мама на два класса младше. А жила семья отца на другом берегу Москвы-реки, прямо напротив нас – между Домом на набережной (он назывался – Дом правительства) и фабрикой «Красный Октябрь». Удивительно, что все там давно сломали, а этот маленький домик барачного типа остался – стоит один-одинешенек.
Стоит до сих пор! Правда, на барак он уже совсем не похож – весь в евроремонте, и сидят внутри какие-то конторы, – но по очертаниям – он, и даже дверь на том же месте! Я помню.
Учась в пятом классе, отец катался на лыжах на берегу Москвы-реки – скатывался на лед (гранитных ограждений еще не было). Лед проломился, и отец, по идее, должен был утонуть, но он умудрился, опираясь на лыжи, выбраться из полыньи и пришел домой, где его страшно выпорол мой дед Григорий. Вообще ему в детстве, как я понимаю, доставалось от отца.
Мама его – моя баба Лида – прожила очень долго. Была она худенькая и очень небольшого роста. Дед Григорий был у нее не первый муж. Она показывала мне фотографию первого мужа. На фотографии стоял на одном колене могучий человек с огромными усами, одетый в майку-борцовку, а через грудь шла шелковая лента, увешанная медалями. Он и был какой-то борец.
Наверно, баба Лида в молодости была необыкновенно хороша собой. Она работала учителем биологии и всю свою жизнь отдала школе и станции юннатов. Имела звание народного учителя СССР и, между прочим, орден Ленина.
Бабушка и меня пристроила на станцию юннатов – мы только переехали на Комсомольский проспект, я учился в третьем классе, а станция располагалась в парке прямо за метро «Фрунзенская», он назывался почему-то «Парк Мандельштама» – чудны дела твои, Господи! Я обожал зверей, все было жутко интересно. У нас жили орлы, пеликаны, медвежата, барсуки, мелкие птицы – целый зоопарк. Мне для исследований была выдана пара хомячков, я должен был содержать их в домашних условиях, наблюдать ежедневно и презентовать журнал наблюдений на станции. Хомячки жили в аквариуме, безбожно воняли, и наблюдать было особенно не за чем. Вдобавок хомячиха неожиданно родила маленьких голых розовых хомячат и сама же их сожрала – я еще не знал тогда, что это довольно обычное явление, сильно расстроился, и с научной работой временно было покончено.
Отец окончил школу и поступил в Московский авиационный институт. Он был помешан на самолетах, все время рисовал их и вырезал из липы точные копии. Эта любовь к самолетам осталась у него на всю жизнь – из заграничных командировок он первым делом привозил сборные модели военных истребителей разных стран (у нас это тогда не продавалось), и мы склеивали их в четыре руки и вешали на стену, чему страшно противилась мама – у нее были свои представления об эстетике жилища. Коллекция наша насчитывала около двух сотен боевых единиц и, кстати, жива до сих пор – ее хранит моя сестра.
Из института отца и забрали в армию в сорок первом году. Скоро он стал лейтенантом и командовал артиллерийским расчетом – как я понимаю, ему только-только исполнилось восемнадцать лет. Я не знаю, сколько мой отец пробыл на фронте – теперь уже некого об этом спросить, а сам он не любил рассказывать о войне. Знаю только, что где-то в районе Лодейного Поля на реке Свирь его расчет подорвался на мине, и отца с тяжелым ранением отправили в госпиталь. Произошла какая-то путаница, и домой пришла похоронка. Баба Лида рассказывала мне, что, когда она получила эту бумажку, не дававшую никаких шансов (это даже не без вести пропавший), она ей не поверила – почувствовала, что что-то не так. И через несколько месяцев он вдруг вернулся домой – с орденом, на одной ноге и с деформированными кистями рук.
(Я видел эти руки с детства и был убежден, что они такие и должны быть – и у меня такие будут, когда вырасту.)
Однажды я случайно нашел его записную книжку – он вел ее в госпитале. Там были рисунки самолетов, несколько цитат из книги Каверина «Два капитана» и очень горькие его мысли – он не знал, как показаться моей будущей матери инвалидом, и не был уверен, что она примет его. Ничего подобного вслух я от него никогда не слышал. Но переживал он напрасно. Ей-богу, я очень немного видел людей, которые бы так любили друг друга, как мои отец и мать, – всю жизнь. А сейчас, по-моему, так вообще не бывает, вы уж меня извините. Что-то изменилось в воздухе.