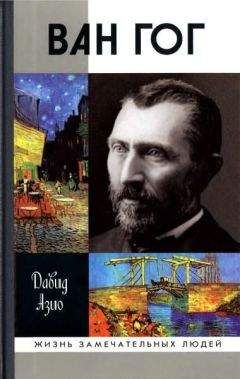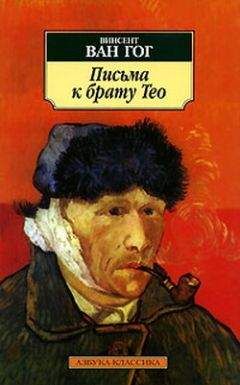Дядя Сент, узнав о случившейся с племянником беде, вмешался вдело и добился направления Винсента в Париж, чтобы вырвать его из лондонской атмосферы. Но он будет там находиться только три месяца, с сентября до конца 1874 года. От этого его первого пребывания в Париже до нас не дошло ни одного письма, и мы о нём почти ничего не знаем. А между тем Париж был в то время свидетелем события исключительного значения как для истории живописи, так и для судьбы Винсента, – первой выставки импрессионистов. Ко времени прибытия Винсента в Париж в сентябре 1874 года она уже была закрыта. Он, несомненно, слышал о ней неблагоприятные отзывы, но это его не интересовало, он оставался в стороне от происходящего. Он мечтал вернуться в Лондон, город, где жила Эжени, и непрерывно читал Библию. И наконец добился желаемого – вернулся в Англию, где пробыл до мая 1875 года.
Пережитый им кризис изменил его до неузнаваемости: необыкновенно успешный молодой человек уступил место субъекту, который не боялся жаловаться самому себе на постигшее его поражение и был готов без конца с каким-то угрюмым наслаждением переживать его. Самолюбие, самоуважение, самосознание исчезли, Винсент желал превратиться в ничто, а если возможно, то и меньше, чем ничто.
В галерее Гупиль он превратился в служащего-отщепенца, не стеснявшегося критиковать произведения, которые ему полагалось продавать. Там уже не знали, что с ним делать. Родные вновь забеспокоились, к нему посылали для вразумления сначала Терстега, бывшего директора гаагского филиала, а потом и дядю Сента. Ничего не помогало. Он знал, что доводит до отчаяния весь клан Ван Гогов, который так в него верил, но это его не беспокоило. Ежедневное чтение Библии и наблюдение за жизнью обездоленных обитателей Лондона совершенно преобразили его.
Профессия торговца произведениями искусства стала для него непереносимой. Он хотел служить людям, делиться с ними той энергией самопожертвования, которую ощущал в себе с тех пор, как совершенно отказался от собственного «я». Ведь сочувствие в человеке, испытавшем неудачу, страдающем, может быть плодотворным, ибо высвобождает силы служить другим, поскольку «я» уже ничто или почти ничто. Это словно вывернутая наизнанку перчатка: энергия юного Винсента осталась при нём, но получила другое направление. Он решает стать священником и не знает, как ему избавиться от постылых обязанностей продавца картин.
Быть может, он утратил любовь к живописи? Ничуть не бывало. Но год, отмеченный последовательным разрушением в нём всего, что могло его поддержать, покончил и с буржуазным идеалом. Отныне он был намерен служить людям, и в письме к Тео процитировал следующее рассуждение Ренана, попутно выразив и собственные настроения: «Чтобы действовать, надо умереть для самого себя… Человек существует в этом мире не только для того, чтобы быть счастливым. И даже не для того, чтобы быть честным, но для того, чтобы совершить великие дела на благо общества, обрести благородство, преодолев обыденность, в которой влачит своё существование едва ли не всякий индивид» (9).
Здесь каждое слово будто написано самим Винсентом, а вся цитата звучит словно сообщение о конце всей его прошлой жизни. После года мучений на свет появился новый Винсент. Он ещё не окончательно «умер для себя», но упорно шёл к этому, устраняя всё, что могло придать его индивидуальности какую-либо цену в глазах окружающих. «Совершить великие дела!» Но какие? В то время он, не принимая в расчёт мнение матери, собирался повторить судьбу отца.
В правлении торгового дома Гупиль было решено снова послать Винсента в Париж – в надежде на то, что перемена обстановки благоприятно на него повлияет. Читая вышеупомянутое письмо брата от 8 мая 1875 года, Тео, должно быть, усомнился в том, что это поможет делу Винсент хотел стать священником и никем иным, что свидетельствовало о сумятице в его сознании. Разве он забыл о своих трудностях со школьной учёбой, собравшись вступить на поприще, которое требовало немалых специальных знаний? Он знал, чего он не желает, но не знал, чего хочет, и до того, как выйти на свою дорогу, в течение нескольких лет искал её.
Начинался зигзаг, растянувшийся на три с половиной года. Винсент, потеряв психологическую устойчивость и самоконтроль, в течение всего этого времени, быть может, худшего в его жизни, словно блуждал в потёмках. Все его попытки заканчивались неудачами. Во время острых кризисов ломался стиль его писем, они теряли энергию и ту психологическую цельность, что прочно соединяет одно слово с другим. Порою это были долгие приступы религиозного словоизвержения, когда уже невозможно отделить бесконечные цитаты от мыслей самого автора. Эти тексты можно принять за признаки душевной сумятицы.
Но в эти годы метаний было и кое-что постоянное, а именно – последовательное и упорное изучение произведений старых и современных писателей и художников. Он читал на языке оригинала всё, что мог найти, от Шекспира до Золя, в том числе Шарлотту Бронте, Гюго, Бальзака, Диккенса, Карлайла, видел и упоминал в письмах картины Дюрера, Рембрандта, Коро, Домье, Милле, а также Мариса, Исраэлса, Мауве… Похоже, что за попытками стать клириком скрывалась тайная подготовка к другому поприщу, в чём он ещё не готов был признаться ни самому себе, ни другим. Выбранный им парадоксальный способ достижения цели соединял многочисленные неудачи с интеллектуальными прорывами: содержание его писем свидетельствует о развитии в нём незаурядной остроты суждения. Несмотря на кажущиеся неудачи, Винсент, в каком бы направлении он ни двигался, времени даром не терял, что бы сам он об этом ни думал.
Революция импрессионистов
31 мая 1875 года Винсент пишет из Парижа. Он только что побывал на выставке Коро, которая привела его в восторг Он упоминает также о вещах Рёйсдала в Лувре, которые нашёл великолепными, о Рембрандте и Жюле Бретоне. Но слышал ли он что-нибудь об импрессионистах и об их учредительной выставке 1874 года? О них в его письмах – ни слова: ни похвалы, ни хулы. А между тем он находился в самой гуще профессиональной художественной среды, и мы знаем о его любознательности, эрудиции, увлеченности. И вот тому свидетельство. В июне в Париже состоялась распродажа рисунков Милле, и Винсент чувствовал себя в отеле Друо, «в зале, где они были выставлены» (1), словно в святилище. Его страсть к Милле и к искусству осталась неизменной. При всём усердии, с каким он читал в то время Библию, пылкая страсть к живописи у будущего священника нисколько не остыла.
Никогда в его письмах упоминание о религии не сопровождалось таким искренним выражением чувств, как рассуждения о живописи. Если он и говорил в своих письмах о Боге, то лишь находясь в подавленном настроении или как бы по обязанности. Его новое, религиозное, призвание было только иллюзией, тогда как единственной настоящей страстью его жизни была живопись. Было заметно, как у него формируется вкус. Это уже не наивный восторг неофита перед картинами какого-нибудь Делароша. Зрение его изощрялось в постоянных и усердных посещениях музеев, изучении старых мастеров.