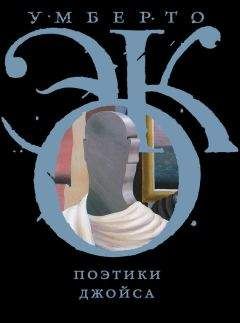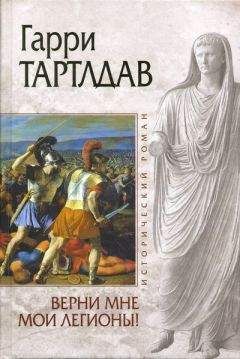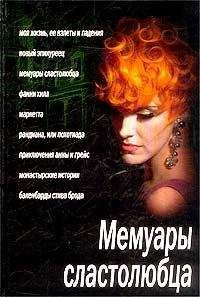Ознакомительная версия.
В действительности автор не остается «позади» такого типа произведения, равнодушно подпиливая себе ногти[189], поскольку на деле он становится на точку зрения другого, переводит ее в объективную форму (Флобер утверждает, что не вложил в мадам Бовари ничего ни из своих чувств, ни из своего существования[190], но затем заявляет: «Madame Bovary, c’est moi»[191]). Но на деле после Флобера, после Джеймса и особенно после Джойса всякий раз, когда в современном повествовании осуществляется этот безлично-драматический идеал, автор уже не говорит сам и не ограничивается тем, что заставляет говорить своих персонажей: он заставляет говорить, он делает экспрессивным сам способ того, как говорят персонажи и как предстают вещи. И это, в конечном счете, та же самая техника, которую кино принимает с самого своего возникновения, когда в «Броненосце “Потемкин”» Эйзенштейн не «судит» отношения экипажа с машиной, но облекает свое суждение в конвульсивный монтаж образов машины и машинистов, прикованных к машине, почти отождествившихся с ней и с ее движениями. И в наши дни, когда Годар в «A bout de souffle»[192], рассказывая нам историю «пропащего» юноши, оказавшегося на обочине общества, монтирует свой фильм (а значит, и взгляд на вещи) так, как это мог бы сделать главный герой, нарушая хронологию и связь событий, применяя невероятные контрасты и ракурсы, – монтаж режиссера – это способ мышления главного героя[193].
Поэтика «поперечного разреза»
Чтобы довести до завершения этот проект драматического повествования, разрешающегося в экспрессивности структуры, Джойс, имея в виду цели своего рассказа, должен прежде всего разрушить инструмент, саму структуру того «хорошо сделанного» романа, который с начала века стал отождествляться с романом вообще, он должен заменить поэтику фабулы поэтикой «поперечного разреза». Поэтика «хорошо сделанного» романа коренится в поэтике аристотелевской, в нормах построения трагической «фабулы», данных этим философом. В то время как история (читай: повседневная жизнь) складывается из комплекса беспорядочных событий, не объединенных никаким логическим смыслом, – событий, которые могут происходить с одним или несколькими людьми в определенный период времени, – поэзия (и искусство в целом) вводит в этот комплекс фактов логическую связь, необходимую последовательность, отбирает одни и обходит стороной другие, согласно требованиям правдоподобия, представляющим собою требования необходимости. Таков принцип традиционного романа – тот самый, о котором Мопассан заявлял в предисловии к своему роману Pierre et Jean («Пьер и Жан»):
«La vie… laisse tout au même plan, précipite les faits ou les traîne indéfiniment. L’art, au contraire, consiste à user des précautions et des préparations… à mettre en pleine lumière, par la seule adresse de la composition, les événements essentielles et à donner à tous les autres le degré de relief qui leur convient, suivant leur importance…»[194]
Здесь Мопассан формулирует правила реалистического повествования, способного передать жизнь так, как она есть. Но и в этом случае он не отступает от непререкаемого правила традиционного романа, то есть от правдоподобного сцепления значительных событий:
«S’il faut tenir dans trois cents pages dix ans d’une vie pour montrer quelle a été, au milieu de tous les êtres qui l’ont entouré, sa signification particulière et bien caractéristique, il devra savoir éliminer, parmi les menus événements innombrables et quotidiens, tous ceux qui lui sont inutiles, et mettre en lumière, d’une façon spéciale, toux ceux qui seront demeurés inaperçus pour des observateurs peu clairvoyants…»[195]
В силу этого принципа «существенно важного», отождествляющегося с принципом романа как такового, происходит следующее: в традиционном романе не говорится о том, что герой высморкался, если только этот акт не «значит» что‑нибудь для цели главного действия. Если он не значит ничего, то это акт незначительный, «глупый» с точки зрения идеологии романа. Так вот: у Джойса мы встречаемся с полным приятием всех «глупых» актов повседневной жизни в качестве повествовательного материала[196]. Аристотелевская перспектива полностью выворачивается наизнанку: то, что прежде было несущественным, становится центром действия, в роман попадают уже не значительные вещи, но всяческие мелочи, вне их взаимосвязи друг с другом, в непоследовательном потоке их появления, мысли наряду с поступками, ассоциации идей наряду с автоматизмами поведения.
Отметим еще раз, что этот отказ от выбора и от иерархической организации фактов означает устранение традиционных условий вынесения суждения. В романе «хорошо сделанном» суждение выносилось, собственно говоря, в силу самой фабулы: фабула устанавливает причинные связи (а значит, и объяснения); она говорит нам, что факт В происходит в силу факта А. Так вот: когда творится история (или же в том случае, когда в повествовательной условности автор делает вид, будто творит ее), причинное объяснение уже представляет собою оправдание и вместе с тем классификацию в соответствии с тем или иным порядком ценностей. Даже сугубо фактическое объяснение в терминах Realpolitik[197] в историографии представляет собою оправдание, выдержанное в макиавеллиевской перспективе ценностей. Создавать «хорошо сделанный» роман – значит отбирать факты с точки зрения автора, а затем приводить их в согласие с некой системой ценностей. Аристотель сказал бы, что речь идет о том, чтобы устранить причинность «истории» (как неотфильтрованного наличия res gestae[198]) в перспективе «поэзии» (как организации некоего historia rerum gestarum[199]). А в «Улиссе» (по крайней мере, по видимости) налицо именно выбор в пользу res gestae, а не historia rerum gestarum, в пользу жизни, а не поэзии, приятие всех событий подряд, отказ от выбора, уравнивание факта незначительного со значительным – до такой степени, что ни один факт нельзя определить как более или менее незначительный по сравнению с другим фактом или со всеми фактами; теряя свою значительность, все факты становятся одинаково важны. Так в «Улиссе» осуществляется претенциозный проект, заявленный Эдуардом в «Faux Monnayeurs»[200]:
«У моего романа нет сюжета… Если вам это больше понравится, скажем так: в нем нет какого‑то одного сюжета… Некий “tranche de vie”[201], как выражались в натуралистической школе. Громадный порок этой школы состоит в том, что она режет всегда в единственном смысле, в смысле времени, то есть “вдоль”. А почему не “поперек”? Или “вглубь”? Что касается меня, то я совсем не хотел “резать”. Поймите: я хотел, чтобы в этот роман вошло все. Не резать ножницами, чтобы удержать содержание именно в этом месте, а не в каком‑то ином. В течение года, как я над ним работаю, со мной больше не происходит ничего такого, чего я туда не вложил бы и не хотел бы туда вместить: чтó я хочу, чтó я собой представляю, все, чему учит меня жизнь – как других людей, так и моя собственная…»[202]
Ознакомительная версия.