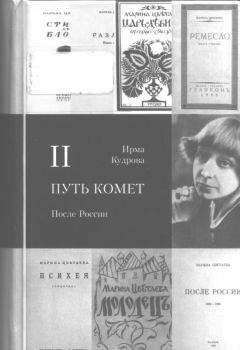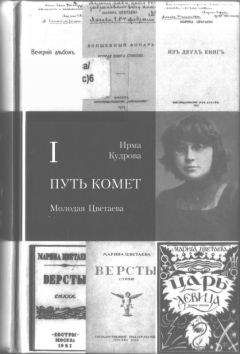Оно сменяется обратным: не исчезающим страхом. За близких. Но и за себя, потому что именно тебя стремятся превратить в колесо для распятия самых дорогих тебе людей.
“Вчера, 10-го, — записывала Цветаева в январе 1941 года в черновой тетради не договаривая, проглатывая куски фраз, — у меня зубы стучали уже в трамвае — задолго. Так, сами. И от их стука (который я, наконец, осознала, а может быть, услышала) я поняла, что я боюсь. Как я боюсь. Когда, в окошке, приняли — дали жетон — (№ 24) — слезы покатились, точно только того и ждали. Если бы не приняли — я бы не плакала...” Ясен ли перевод на общечеловеческий? Она едет в тюрьму с передачей для мужа, о котором полтора года не знает ничего. Единственный способ узнать, жив ли он, — передача: приняли — значит, жив. А вдруг на этот раз не примут?
Короткая запись в другом месте тетради: “Что мне осталось, кроме страха за Мура (здоровье, будущность, близящиеся 16 лет, со своим паспортом и всей ответственностью)?”
И еще запись, вбирающая все частности: “Страх. Всего”. Оба слова подчеркнуты[24].
В ее письмах 1939–1941 годов — россыпь признаний, в которых отчетливо прочитывается страх собственного ареста. А может быть, и ареста Мура. Могла ли она не знать об арестах и ссылках членов семьи “врага народа”? Разве не арестовали уже сына ее сестры Аси Андрея Трухачева? И сына Клепининых Алексея?
Зимой и весной 1940 года ее мучают ночи в Голицыне: звуки проезжающих мимо машин, шарящий свет их фар. И Татьяне Кваниной она говорит как бы невзначай: “Если за мной придут — я повешусь...” Перед самым отъездом в эвакуацию ей необходимо взять из жилищной конторы справку. Но она боится идти за ней сама и просит сделать это Нину Гордон: если она сама придет за справкой, ее тут же заберут. Она боится своего паспорта — он “меченый”. Боится паспорта Мура. Боится, по воспоминаниям Сикорской, заполнять анкеты, что ни вопрос там, то подножка: где сестра, где дочь, где муж, откуда приехали.
Соседка по квартире на Покровском бульваре (тогда еще десятиклассница) Ида Шукст вспоминает, что Цветаева боялась сама подходить к телефону и сначала узнавала через нее, кто спрашивает. Однажды — уже началась война — в квартиру без предупреждения пришел управдом. “Марина Ивановна встала у стены, раскинув руки, как бы решившаяся на все, напряженная до предела. Управдом ушел, а она все стояла так”[25]. Оказалось, он приходил, просто чтобы проверить затемнение. Цветаева же слишком хорошо помнила появление коменданта на даче в Болшеве осенью тридцать девятого: всякий раз ему сопутствовал очередной обыск — и арест.
Она боится довериться новым знакомым. Сикорская пишет об этом довольно резко: “Ей все казались врагами — это было похоже на манию преследования”[26].
Преувеличенны ли были все эти страхи? Не слишком.
И об Ахматовой говорили, что она преувеличивает внимание Учреждения к своей особе. Вряд ли это так. Отметим, однако, важное различие в трагическом самоощущении двух русских поэтов. Ахматова прожила в этом отечестве всю свою жизнь (что само по себе не подвиг и не заслуга). Цветаева очутилась в России после семнадцати с лишним лет разлуки. И о чудовищном размахе беззаконий и лицемерия, пронизавших страну снизу доверху, она, конечно, не догадывалась. Вот почему то, что обрушилось на ее семью, вызвало у нее такой шок. Я думаю, мир пошатнулся бы много слабее в ее глазах, если бы ордер на арест предъявили ей самой. Но увели Алю и мужа! Тех, у кого все 30-е годы с уст не сходили слова преданности Стране Советов! “Во мне уязвлена, окровавлена самая сильная моя страсть: справедливость”, — записывала Марина Ивановна в своей тетради. Она все еще не догадывалась (запись относится уже к началу 1941 года), что принимать так близко к сердцу попрание справедливости в ее отечестве этих лет равнозначно скорби об отсутствии снега в Сахаре. Но таков ее сердечный ожог. Безмерная острота душевной реакции — отличительная черта ее природного склада.
Бесспорно, и без специальных “бумажных” доказательств мы назовем НКВД прямым пособником в самоубийстве Марины Цветаевой. Черное его дело началось не в Елабуге. И даже не осенью тридцать девятого года, когда арестовали Алю и Сергея Яковлевича. И не осенью тридцать седьмого, когда был убит под Лозанной Рейсс-Порецкий и Эфрон бежал из Франции, а Цветаеву дважды допрашивали во французской полиции. Может быть, в июне тридцать первого, когда Сергей Яковлевич отнес в советское консульство в Париже прошение о возврате на родину? Или же еще раньше: в 20-е годы, когда в ряды русских эмигрантов-евразийцев были засланы первые люди в штатском, получившие задание в кабинетах ГПУ?
Но в конце концов не столь уж и важно, в какой именно момент паутина лжи и шантажа, затянувшая в свои сети Сергея и Ариадну Эфрон, стала смертельно опасной уже для самого поэта. Несомненным можно считать другое: нити той самой паутины накрепко вплетены в роковую елабужскую петлю, оборвавшую жизнь блистательной Марины Цветаевой.
“Воспоминания о Марине Цветаевой”. М. “Советский писатель”. 1992, стр. 447. В дальнейшем данное издание обозначено: “Воспоминания”.
Беседа с Идеей Брониславовной Шукст-Игнатовой. Записана Е. И. Лубянниковой 6 октября 1982 года. Архив Е. И. Лубянниковой.
“Воспоминания”, стр. 449.
Мария Белкина. Скрещение судеб. Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Попытка времени, людей, обстоятельств. Издание второе, дополненное. М. “Благовест”, “Рудомино”. 1992, стр. 311. В дальнейшем данное издание обозначено: Белкина. // Важная оговорка: и знакомство с Флорой Лейтес на пароходе, и дата телеграммы, посланной ей из Елабуги (см. ниже), — результат уникальных разысканий М. Белкиной; моя роль в данном случае — лишь попытка выявить внутреннюю логику фактов.
Белкина, стр. 320.
Кирилл Хенкин. Охотник вверх ногами. М. “Терра — Terra”. 1991, стр. 49–50.
Белкина, стр. 307.
Рассказ А. И. Сизова впервые опубликован в кн.: Лилит Козлова. Вода родниковая. К истокам личности Марины Цветаевой. Ульяновск. “Симбирская книга”. 1992, стр. 207.
“Болшево”. Литературный историко-краеведческий альманах. Вып. 2. М. Товарищество “Писатель”. 1992, стр. 211.