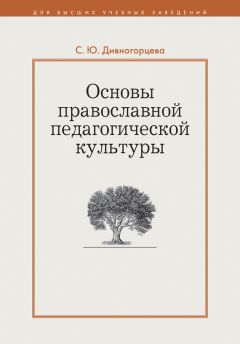самих болгар, которые ждали «своего царства» и желательно прямо сейчас. В обоих случаях ожидания носили «черно-белый» характер («болгары хорошие, турки плохие» и «русские не любят турок, русские любят болгар»). Реальность оказалась намного сложнее. Русская армия слабо ориентировалась в сложнейшем этническом составе региона и тех, веками складывавшихся, отношениях между болгарским и турецким населением. Многие же болгары полагали, что русская армия самим фактом своего прибытия в конкретное место автоматически устанавливает там власть болгар. Так, например, учитель Димитр Душанов вспоминает, как его грубо обругал граф Роникер, комендант города Казанлык, когда Душанов пришел просить заступиться за местных турок, которые подверглись насилию со стороны болгар и русских солдат. Граф кричал: «Не вы ли стонали от турок и так, что в такую даль заставили ехать сюда и нас». [121] Известный русский военных корреспондент В. В. Крестовский с разочарованием описывал непрерывную войну между христианским и мусульманским населением. Причем кто был пострадавшей стороной, установить невозможно, потому что «если попадется христианам где-нибудь в стороне от большой дороги деревня турецкая, то ее также ожидает участь пожара и разгрома в отместку за истребление христианских селений». [122] Такое же разочарование описывал и другой корреспондент той войны, В. И. Немирович-Данченко: «В прошлом письме я сообщал вам о зверствах, совершенных турками над болгарами. В этом я должен упомянуть о недостойном поведении болгар, обирающих теперь турок в свою очередь. Братушки положительно занялись денным грабежом». [123]
Вторая трансформация этического осмысления войны началась на стадии post bellum. Основное направление этой трансформации можно выразить тезисом «и все-таки мы не зря начали эту войну». Факты войны изменить было невозможно, но в рамках целенаправленной политики памяти можно было придать фактам новое, например ироничное и даже комичное, звучание. На первый план выдвигались подвиги, совершенные на войне. События негативного содержания затушевывались (активизация насилия среди мирного населения разных национальностей и религий) или высмеивались (коррупция чиновников и командования, воровство поставщиков и т. д.). Однако костяк концепции «христолюбивого воинства» оставался неизменным.
Серьезный кризис этой концепции произошел в период Русско-японской войны. Эта война являлась уникальным для Российской империи военным конфликтом с точки зрения конфессионального аспекта. В XIX в. практически все войны Россия вела против христианских или мусульманских государств. Большую роль в официальной пропаганде при этом играла религиозная тема. Католики, протестанты, мусульмане или просто атеисты были очень удобным противником для разыгрывания религиозной карты в пропаганде. Во многом благодаря этому в главной этической доктрине русской армии в XIX в. — концепции «христолюбивого воинства» — одним из трех важных элементов была нетерпимость к противникам истинной веры. Война с Японией во многом отличается в этом отношении. Православие и религиозные традиции Японии настолько не похожи друг на друга, что их невозможно расположить на одной оси координат, где на одном полюсе находилось бы православие, а на другом — «противники истинной веры». С точки зрения ряда исследователей, это даже открывало для России хорошие возможности для проповеди православия в Японии. Деятельность одного из самых талантливых проповедников XIX в. Святителя Николая Японского — яркое тому доказательство. У России также не было богатого исторического опыта войн с государствами азиатских вероисповеданий, следовательно, было невозможно использовать второй из основных элементов концепции христолюбивого воинства — обращение к исторической памяти. Да и сами русские войска, задействованные в войне, не были монолитно православными. Уже в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. большой процент армии составляли мусульманские части и солдаты-евреи. Но общий тон пропаганды был пронизан идеей помощи братьям по вере, православным болгарам. Очевидно, что в случае с Японией отношение к войне со стороны армии и населения должно было существенно измениться. Должен был измениться и сам православный военный этос армии.
При исследовании русской армии в период Русско-японской войны прежде всего следует отметить ее поликонфессиональность. Можно выделить как минимум шесть конфессиональных групп среди солдат — православные, католики, протестанты, буддисты, мусульмане и иудеи. Офицерский корпус был более монолитным в плане вероисповедания, так как военнослужащие не православной веры не допускались к экзамену на офицерский чин и даже национальными частями (мусульманскими) командовали русские офицеры. Открытым остается вопрос о подлинном вероисповедании так называемых «выкрестов» — солдат и офицеров, перешедших в православие во время военной службы. Исследование показало, что в специфических условиях войны или плена может происходить возращение к исконной религии в масштабе отдельной личности и малой социальной группы. Особенно это актуально для военнослужащих еврейского происхождения, в отношении которых с начала XIX в. проводилась жесткая политика православного «перевоспитания» в армии. Поэтому мы можем говорить в основном о личностном уровне взаимодействия православного военного этоса с иными религиозными традициями, так как иноверцы практически не формировали крупных групп внутри воинских частей из-за религиозной и национальной квоты. Но даже в условиях применения данной квоты (которая часто нарушалась при пополнении кадровых частей резервистами), многие национально-религиозные группы формировали устойчивые микро-коллективы в составе подразделений. Так, например, резервисты из западных губерний (протестанты и католики) всегда держались обособленно, демонстрировали низкую мотивацию сражаться, хотя отличались более высокой общей дисциплиной. Эти так называемые «курлябчики» (от топонима «Курляндия») часто выступали примером высокой морали в быту для православных солдат, но не «рвались в бой». [124]
Другое дело, когда однородные по конфессиональному признаку группы солдат русской армии формировались искусственно. Прежде всего, речь идет о военнопленных. Опыт содержания военнопленных и даже инфраструктура («приюты» для пленных) остались у Японии со времен Японо-китайской войны. Практика по организации содержания военнопленных была специфична в отношении пленных разных национальностей и вероисповеданий. Особенности этой практики, в частности в деле реализации прав военнопленных на свободу вероисповедания можно проиллюстрировать на примере иудеев, в отношении которых в русской армии, как мы упоминали выше, проводилось православное «перевоспитание». Согласно «Еврейской энциклопедии Брогауза и Ефрона», информация которой восходит к данным Бюро по военнопленным при японском Военном министерстве, пленных евреев было всего 1739, т. е. примерно 2.5 % от всего числа пленных. [125] Несмотря на относительную малочисленность неправославных пленных, Япония предоставляла им все условия для отправления религиозного культа. Японское руководство всячески шло навстречу просьбам евреев, касающихся национальных и религиозных вопросов. Это касалось организации богослужения, празднования важных религиозных дат и погребения умерших. [126] Даже на современных фотографиях кладбищ русских военнопленных в Японии видны могилы евреев, которые располагались на определенном расстоянии от могил иноверцев. В отличие от православных, иудейские обряды совершались самими военнопленными из тех, кто знал все тонкости обрядности и традиций или делал что-то подобное в России. И здесь можно отметить эффект