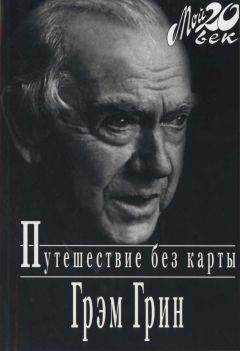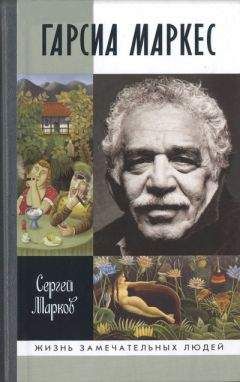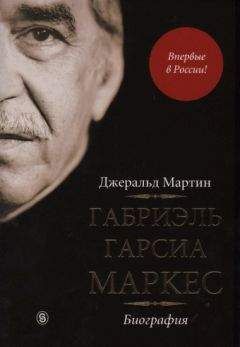Сегодня эти строчки кажутся претенциозными, но они по- прежнему пахнут убежищем и тайной.
К литературе приходишь окольными путями, и я часто брал с собой в овраг «Паоло и Франческу» Стивена Филлипса, как теперь какой‑нибудь мальчик, сбежав с уроков, берет стихотворные пьесы Кристофера Фрая, и представьте, в этой банальной драме тоже были строчки, приближавшиеся к поэзии: «последний, предзакатный стон раненых королей», «бесплодный гулкий стон пустого моря», — а я в боярышнике не привередничал.
Сознание, что меня в любую минуту могут обнаружить, заставляло мое сердце так колотиться, что порой я даже испытывал что‑то похожее на счастье. Запах будит во мне воспоминание намного острее, чем звук или даже вид, например, я бессознательно привыкаю к запаху мастики или моющего средства, без которого дом перестает быть домом, если я, отворив входную дверь, вдруг не чувствую его. Поэтому теперь, когда мне за шестьдесят, я помню запах листьев и травы, росшей в том овраге, намного лучше, чем грозные звуки шагов или башмаки какого‑нибудь прохожего, ступающие на уровне моих глаз. В 1944 году я, стыдясь себя, заночевал в безопасном Берхемстэде в гостинице «У лебедя», вдалеке от самолетов и дежурств на крыше с Хью. Мне приснился книжный магазин Смита на Хай — стрит, из которого я много лет назад украл «Железнодорожный журнал». Там по — особому пахло, не так, как в других магазинах Смита, и я вновь ощутил этот запах. Во сне я нашел на одной из полок книгу, которую давно искал, и утром, не позавтракав, поспешил в магазин, чтобы проверить, сбудется ли сон. К моему разочарованию, книги там не оказалось, и к тому же я с порога почувствовал, что знакомый запах исчез, а без него магазин был уже не тем. Я справился о владельце, которого хорошо помнил, и мне сказали, что он умер в прошлом году. Наверное, новый хозяин убрал источник запаха, так долго жившего в моем воображении.
В воскресенье нас отпускали гулять — по трое, и мы должны были записывать свои имена, как в танцевальную программку, на листе бумаги, который вывешивался у двери в раздевалку. Такое деление наверняка имело моральную подоплеку, хотя мне непонятно какую, особенно сейчас, когда я вспоминаю, как ловко изображали «Корону императора» одновременно три девицы в гаванском борделе времен Батисты. Трое — компания не менее подозрительная, чем двое. Впрочем, может быть, наши учителя цинично полагали, что один из троих всегда доносчик?
Когда я учился в первом классе, моим воспитателем в пансионе был мистер Герберт, старый седовласый холостяк. У него была внушительных размеров сестра, которая заботилась о нем намного лучше, чем об учениках. В добавление к мучительной неразберихе моих внутришкольных отношений он приходился мне крестным отцом и совместно с огромным подагрическим полковником Уилсоном, из дома № 11, хранившим ночной горшок в серванте, был связан со мной таинственными узами с момента моего рождения. Мистер Герберт к числу циников не принадлежал. Это был наивный, маленький, белый кролик, которым правила его сестра, смуглая Констанция. Наверное, он очень любил птиц, потому что стал позднее личным секретарем лорда Грея, когда бывший министр доживал свой век в полной слепоте. Мое единственное воспоминание о нем связано с первым днем занятий, когда, исполняя обязанности цензора, мистер Герберт в классе Сент — Джона проверял, какие книги мы привезли с собой из дома. Опасность заключалась в источнике, то есть в доме, где жили ненадежные, нарушившие безбрачие родители. Все, что было в школьной библиотеке, читать позволялось, даже зажигательные белые стихи сэра Льюиса Морриса, из которых я чуть позже узнал о плотской любви Елены Прекрасной и Клеопатры.
Пути цензуры неисповедимы. В пятидесятые годы меня вызвали в Вестминстерское аббатство к кардиналу Гриффину, и я узнал, что Святейшая канцелярия наложила запрет на мой роман «Сила и слава», опубликованный десятью годами раньше, и что кардинал Пиццардо требует, чтобы я его переделал. Разумеется, я, как мне казалось, вежливо отказался, и кардинал Гриффин заметил, что, по его мнению, запрет следует наложить на «Конец романа». «Понятно, что нам с вами, — сказал он, — эротические сцены вреда не принесут, но молодым…» Я ответил, и это было правдой, потому что я забыл о дурном влиянии сэра Льюиса Морриса, что едва ли не первое эротическое волнение я испытал при чтении «Дэвида Копперфилда». На этом наш разговор кончился, но напоследок он вручил мне экземпляр епископского послания, осуждавшего мою книгу, которое читалось во всех церквах его епархии. (К сожалению, мне не пришло тогда в голову попросить его поставить на нем свой автограф.) Позже, когда папа Павел сказал мне, что в числе прочих моих книг он читал «Силу и славу», я ответил, что роман, который он читал, был проклят Святейшей канцелярией. Папа не был так категоричен, как кардинал Пиццардо. «Отдельные сцены в ваших романах всегда будут оскорблять чувства некоторых католиков, — сказал он. — Пусть вас это не волнует». И я без труда следую его совету.
Школьные законы изменить так же трудно, как и законы римской курии, независимо от того, долго ли правит их учредитель. Досмотр домашних книг, производившийся, только когда мы пересекали границу (посылки из дома не вскрывались), прекратился после выхода мистера Герберта на пенсию, но остались другие следы его правления: уборные без замков (каждый, кто торопился совершить утренний обряд, должен был, забежав туда, спрашивать: «Где не занято?» — чтобы узнать, какая кабинка свободна) и воскресные прогулки тройками, чтобы никто и ни при каких обстоятельствах не оставался в крамольном одиночестве.
Но я не участвовал в сопротивлении, поскольку был сыном Квислинга, и вынужден был напрашиваться в компанию презиравших меня повстанцев, пока после чистилища первых двух семестров отец не позволил мне наконец проводить воскресные дни дома. За это счастье я дорого заплатил своими нервами, испытывая нечто вроде coitus interruptus[10] с цивилизованной домашней жизнью всякий раз, когда наступал вечер и мне приходилось идти с другими учениками в школьную церковь, потом взбираться на холм в Сент- Джон и вечером по каменным ступеням в спальню, где однажды я так и не смог, к своему стыду, разрезать себе колено.
Детское горе невозможно измерить, оно растет день ото дня, потому что ребенок не видит выхода из темного тоннеля. Тринадцать недель семестра вполне могут быть приравнены к тринадцати годам. Неожиданное никогда не происходит. Горе срастается с буднями. Думаю, что человек, отбывающий долгий срок в тюрьме, чувствует то же самое. Не могу вспомнить, что именно в монотонных буднях школьных дней толкнуло меня на этот первый отчаянный шаг: одиночество или сложность отношений со всеми, кто меня окружал, вечная грязь, уборные без замков или тяжелый воздух в спальне (Сент — Джон, кстати, был очень спокойным в сексуальном отношении пансионом, там не было и намека на гомосексуализм. Другое дело — анальный юмор, я ненавижу его с тех самых пор). А может быть, уже тогда я страдал от того, что казалось мне величайшим предательством? Тем не менее эту историю ждал неплохой, хотя и весьма отдаленный конец.