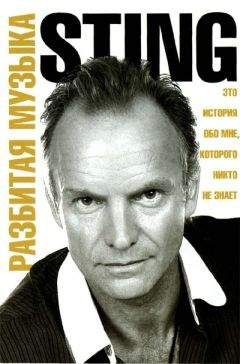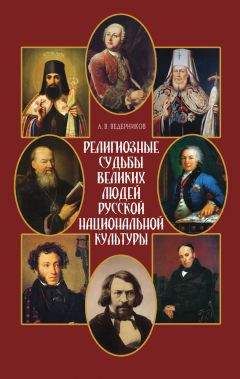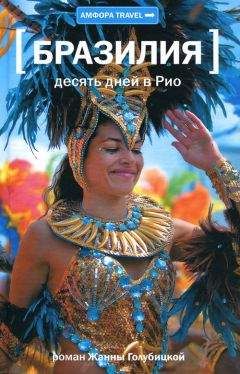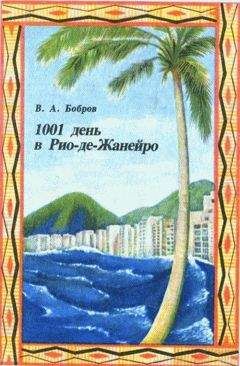ВЫ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ ЖИЛИ ТАК ХОРОШО, — гласит надпись, исполненная в стиле граффити. Местное отделение партии лейбористов напечатало свои собственные плакаты, используя лозунг тори с зачеркнутыми последними двумя словами. Он гласит: ВЫ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ ЖИЛИ.
Отец уже ушел на работу. Сегодня школьный день, поэтому я проснулся рано. Я одеваюсь и начинаю спускаться по лестнице вниз, чтобы развести огонь в камине, что в комнате за магазином. Когда я оказываюсь на первом этаже и поворачиваю за угол, я слышу какой-то шум в конце коридора, ведущего к маленькой прихожей и парадной двери. Нагнувшись, я вижу тени двоих людей за матовым стеклом двери прихожей. Я очень тихо спускаюсь вниз по ступенькам, стараясь не издавать ни звука и всем своим весом налегая на деревянные перила. Из-за стеклянной двери слышны тихие стоны и учащенное дыхание, за ней читаются очертания двух прижавшихся друг к другу голов на фоне стены. Я двигаюсь медленно и без единого звука вниз по длинному лестничному пролету, не смея даже вздохнуть. Стоны становятся громче, как будто кому-то делают больно, и, когда моя рука хватается за ручку двери, я ощущаю и ужас и бесстрашие одновременно. Мной движет недоумение, любопытство и, хотя я этого до конца не осознаю, необходимость спасти маму от какой-то ужасной опасности. Когда я поворачиваю дверную ручку, с той стороны стекла внезапно начинается паника. Как только мне удается немного приоткрыть дверь, ее со страшной силой захлопывают с обратной стороны. «Все хорошо, все хорошо», — я слышу мамин голос, старающийся меня успокоить, но его нарочитая нормальность звучит неубедительно. Внезапно мы оба становимся похожи на обреченных в падающем самолете: мама не в состоянии ни утаить опасность от меня, ни скрыть свой собственный страх.
Я так ничего и не увидел, но я убегаю прочь и слышу, как где-то позади захлопывается входная дверь. Мама не находит меня, когда поднимается ко мне в комнату. Я спрятался глубоко в моей пещере под лестницей — хранитель тайны, которая недоступна моему пониманию. Мне не известно, узнал ли отец об увлечении матери или интуитивно почувствовал, что происходит что-то не то и подыскал подходящий предлог, чтобы уволить Алана, но Алан больше не работает с нами. На эту тему у нас в семье не было сказано ни единого слова. У меня появилась надежда, что теперь наша жизнь вернется в более или менее нормальное русло, но мои чувства все еще в расстроенном состоянии, и я становлюсь замкнутым и погружаюсь в самого себя. Я спрашиваю себя, нет ли в случившемся моей вины, но мне некому довериться и некому заверить меня, что я ни в чем не виноват.
Я начинаю все чаще бывать в доме бабушки и дедушки и проводить там все больше и больше времени. Я не чувствую себя вправе поделиться своим секретом с Агнес или Томом, но я ощущаю себя более защищенным в атмосфере надежности, которая царит в их уютном доме, атмосфере, созданной теми бесчисленными годами, что они провели вместе. Еще мне нравится барабанить по клавишам пианино, которое стоит у них в гостиной. Над пианино висит картина с изображением Сердца Христова. На картине можно увидеть Иисуса, чей сострадательный орган ярко пылает у него в груди, окруженный терновым венком с ужасными шипами. Я начал скучать по нашему пианино с тех пор, как его увезли, поэтому инструмент бабушки Агнес становится идеальной отдушиной для моего невысказанного смятения и затаенной злости. Это та же комната и тот же инструмент, на котором мама аккомпанировала отцу в их счастливые времена, и воспоминание о песенке «Goodnight Irene» витает здесь, как тонкий аромат духов. Я закрываю дверь гостиной и задергиваю занавески. До отказа нажав на обе педали, я набрасываюсь на клавиши с очевидно антимузыкальной свирепостью. Наверное, я ищу гармонии в рухнувшем мире, но совсем не ее производят мои неумелые руки. Из-под моих пальцев вырываются чудовищные звуки, но меня это почему-то успокаивает.
Если бы пианино не давало выхода моей агрессии, я, возможно, стал бы преступником. Я громил бы автобусные остановки, воровал всякую всячину в магазине «Вулворт» — да мало ли существует всевозможных мелких правонарушений! Видит Бог, соответствующие знакомства у меня были. Возможно, бабушка Агнес и дедушка Том, которые вынуждены были слушать мою какофонию, смирились бы с ней, если бы знали о моих переживаниях, но они не знали. Никто не знал.
Я так и вижу бабушку, которая медленно открывает дверь в гостиную. Она раздраженно сверкает глазами из-под очков в черепаховой оправе. Я прекращаю свою шумную импровизацию, как будто меня застали за чем-то постыдным.
— Послушай, сынок, — говорит бабушка, — ты не мог бы сыграть что-нибудь получше, чем эта…
— она мучительно пытается подобрать слово, описывающее мои музыкальные опыты, — эта… эта сломанная музыка? Я опускаю голову, не в силах даже взглянуть на нее. «Да, бабушка, я постараюсь».
Весной погода наладилась, и отцу уже не составило труда найти замену для Алана. Напряжение, царившее в нашем доме, несколько разрядилось. Моим родителям удавалось, по крайней мере, быть вежливыми друг с другом, хотя и без прежней теплоты. Прихожая больше не могла служить надежным местом для маминых тайных свиданий с Аланом, и теперь мама выезжает из дома только раз в неделю, в четверг вечером, чтобы навестить Нэнси — во всяком случае, так она нам говорит. Она отправляется туда на машине, а отец, мрачный и молчаливый, остается дома с нами. Вероятно, мама не раз пыталась порвать свои тайные отношения с Аланом, но ее душевное стремление и романтическая привязанность к нему неизменно оказывались сильнее. Она встретила любовь своей жизни, и до конца своих дней будет трагически разрываться между этой любовью и узами семьи.
Наступила Пасха 1962 года, и я получил право на обучение в гимназии в Ньюкасле. В нашем классе еще сорок одиннадцатилетних детей, но только четыре мальчика и десять девочек набрали количество баллов, достаточное для поступления в гимназию, эту высшую ступень школьной системы того времени. Мой друг Томми Томпсон не вошел в число избранных, хотя, по моему мнению, он умнее любого из нас. Мой отец не любит тратить деньги на пустяки, но мама убедила его, что я заслужил награду за свои успехи в учебе, — я втайне подозреваю, что она чувствует свою вину передо мной из-за того случая с Аланом и хочет как-то ее загладить, хотя и не говорит об этом ни слова. Я намекаю, что видел в магазине новый велосипед — красный, с загнутыми ручками, белобокими покрышками и четырьмя скоростями. Он стоит пятнадцать гиней — огромные деньги. Я знаю, что рискую, но знаю и то, что вряд ли когда-нибудь еще окажусь в таком выгодном положении. Эрни с некоторой неохотой отправляется вместе со мной в велосипедный магазин, который располагается неподалеку от Хай-стрит, по соседству с похоронным бюро. Велосипед стоит в самом центре витрины, как приз для какого-нибудь телевизионного шоу. При виде его даже отец приходит в восторг. Его как инженера не может не восхищать легкость велосипедной рамы, передаточный механизм и система тормозов. Держась за ручки руля, я вдыхаю новизну моего велосипеда, а его хромированная сталь мерцает, как обещание будущего счастья.