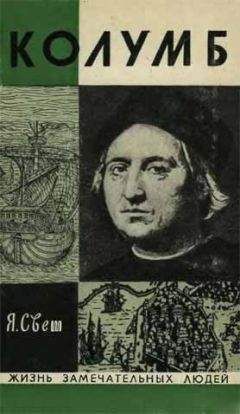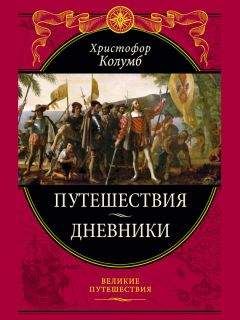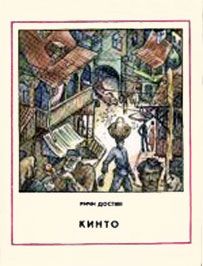Правда, как раз в Колумбовы времена европейские гуманисты затеяли великую чистку, и в их трудах возродилась меднокимвальная речь древних римлян.
Но Колумб этих трудов не знал, да и не нужна ему была цицероновская латынь. Он изучал косноязычную и вульгарную латынь тяжеловесных ученых трактатов. Чтобы их читать и делать на полях выписки и пометки.
И надо отдать ему должное. За короткий срок он эту латынь освоил. И, быть может, потому, что синтаксис средневековой латыни Колумб не зубрил в школьных аудиториях, его латынь приятнее суконного наречия Сакробоско. И, кроме того, в латинских писаниях Колумба проявляются оригинальные особенности его неровного, «астматического» стиля.
Да, самоучка Колумб многое приобрел, но вместе с тем он и лишился кое-каких благ, которые давало в ту пору учение в главных центрах европейской научной мысли.
Мысль эта билась в тенетах схоластики, ее подавляли и распинали поборники старой, освященной веками системы ортодоксального мракобесия, но уже занималась заря эпохи Возрождения, и все чаще и чаще рыцарям вчерашнего дня приходилось устранять прорехи и прорывы в ветшающих тенетах.
Наука вступала в эпоху, «которая создала в Европе крупные монархии, сломила духовную диктатуру папы, воскресила греческую древность и вместе с ней вызвала к жизни высочайшее развитие искусства в новое время, которая разбила границы старого orbis и впервые, собственно говоря, открыла Землю» (3, 508).
Из праха возрождались памятники античной культуры, без устали работал печатный станок, выходили в мир труды древних философов, поэмы Вергилия и Горация, извлеченные из забвения книги римских историков, астрономические таблицы, описания путешествий в дальние страны Востока, сатиры на папу монахов, схоластов-водолеев.
Флорентиец Поджо Браччолинни открыл своим изумленным современникам Цицерона и Лукреция, моденец Пико делла Мирандола на открытых диспутах громил схоластов, высмеивал астрологию и астрологов, утверждал безграничные возможности разума в познании мира. Римлянин Лоренцо Велла издевался над мракобесами в сутанах и рясах, он доказал, что так называемый «Константинов дар» — грамота императора Константина (312–337), на которую римские папы опирались, притязая на светскую влаcть, — грубая фальшивка. Он же выявил грубейшие ошибки в каноническом латинском переводе Библии.
Уже родились Леонардо да Винчи и Микеланджело, уже жил на свете Коперник, уже возведена была Сикстинская капелла, и в угрюмую резиденцию наместников святого Петра вступили учителя Рафаэля.
Не очень полноводен, не бог весть как широк был этот духовный поток, но он набирал силу и исподволь подмывал старые дамбы.
В этот поток лиссабонский генуэзец Колумб вступил лишь по щиколотку. Новые веяния едва доносились до него, и он был пленником устойчивых, стереотипных норм средневекового мышления и средневекового мировосприятия.
Правда, о молодом Колумбе волей-неволей приходится судить по словам и поступкам Колумба преклонных лет.
В последние годы жизни, в этом мы со временем убедимся, он свято верил не только в дух, но и в букву священного писания, и его религиозные чувства доходили до явного юродства.
Черта эта не очень быча свойственна истинным генуэзцам, суеверным прагматикам, подобным тем евангельским мытарям, которых Христос изгнал из храма.
Но, несомненно, и в юные годы она была присуща Колумбу. И во многом определяла направление его мыслей и круг его чтения.
Новый и особенно Ветхий завет Колумб знал превосходно.
Склонность к мистической трактовке космогонических идей священного писания и отцов церкви в позднейшие годы была ему присуща в высшей степени, и надо полагать, что проявлялась она и в молодости.
Мы вскоре увидим, что не очень велик был набор тех географических и астрономических трудов, которыми он пользовался, разрабатывая свой проект.
С классиками античной и средневековой географии Колумб знакомился не по первоисточникам, а извлекал нужные ему сведения из вторых рук.
И он разделял веру этих робких компиляторов в непогрешимость великих авторитетов, хотя порой по частным поводам и оспаривал канонические суждения Птолемея.
А верил и заблуждался он искренне и упорно. Он был подвижником своих идей, истинных и ложных, и готов был отстаивать их любой ценой с таким же мужеством и с такой же отвагой, как это делали и христианские великомученики, и такие дерзкие разрушители средневекового миропорядка, как Томас Мюнцер и Джордано Бруно.
Вспоминая былые годы, Колумб намеренно во главу угла поставил не книжные свои занятия, а опыт общения с людьми разного звания и положения.
И действительно, его «университетами» были таверны лиссабонской Рибейры, причалы Риштеллу, рейд Фуншала, откуда уходили в дальние дали ветераны бесчисленных морских походов, и кривые закоулки Порто-Санто, маленькой столицы маленького острова, продутого всеми ветрами Атлантики.
Порто-Санто… Из морской синевы выплывает навстречу кораблям верблюжий силуэт этого двугорбого островка. Он чуть побольше ленинградского Васильевского острова, очень горист, берега его истерзаны морем, и только на юге миль на шесть вдоль побережья тянется широкая полоса золотых песков, и в тихой бухте этого пляжа ютится островная столица, городок Порто-Санто — Святая гавань.
Обойти его можно было за пять минут. Особого смысла, правда, в этом не было: кроме складов, корчмы и маленькой церквушки, никаких достопримечательностей в Святой гавани не имелось.
Резиденция его светлости, капитана-донатария Бартоломео Перестрелло II, — приземистый белый дом со стенами крепостной толщины стоял на пыльной площади, украшенной покосившимся позорным столбом.
Там Колумб бывал часто, перебирая старые бумаги времен Бартоломео I и его преемника Педро Корреа де Акуньи.
Но, вероятно, еще чаще он посещал просторную гавань, в которой сновали юркие рыбачьи лодки и отстаивались на якоре корабли, идущие из Лиссабона на Мадейру и из Мадейры в Лиссабон.
Кормчие и матросы этих кораблей коротали долгие часы стоянки в портовой корчме, и с ними Колумб вел долгие и небесполезные беседы.
Фернандо Колон и Лас Касас, со слов великого мореплавателя, приводят кое-какие сообщения этих бывалых людей об их плаваниях в Море-Океане. Некто Мартин Висейнте рассказывал Колумбу, что в 450 лигах (2700 километров) к западу от мыса Сан-Висенти он подобрал в море кусок дерева, обработанный, и при этом весьма искусно, каким-то орудием, явно не железным. Другие моряки встречали за Азорскими островами лодки с шалашами, причем эти суденышки не опрокидывались даже на большой волне. Видели у азорских берегов огромные сосны, эти мертвые деревья приносило море в пору, когда дули сильные западные ветры. Попадались морякам на берегу азорского острова Файял трупы широколицых людей «нехристианского» обличья. Некто Антонио Леме, «женатый на жительнице Мадейры», — говорил Колумбу, что, пройдя сто лиг на запад, он набрел в море на три неведомых острова.