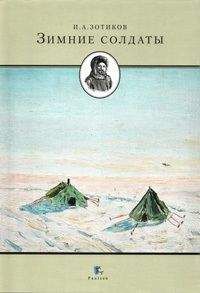Ознакомительная версия.
Но прошел день, два, и я сказал отцу, что приехал создавать в селе большевистскую ячейку. Одна из целей ее – прекращение всех этих религиозных служб и монархических настроений… Плохой, наверное, я был сын, или время было такое. Шли ведь брат на брата.
У нас, правда, этого не случилось. Брат Женя, чуть младше меня, оказалось, давно уже был коммунистом, и ходил в город на заседания большевистской организации. А мама всегда много читала, особенно любила Льва Толстого, была полна полуромантических чувств ко всем «революционерам» и «демократам», и стала на сторону двух своих старших сыновей. Так вот оказалось, что семья внезапно раскололась. Революционный водоворот унес нас от нашего всегда несгибаемого, особенно в вопросах веры и долга, отца. Но я был слишком молод, чтобы это могло меня остановить.
Меня выдвинули на работу в волостной комитет партии. Я был заведующим отделом народного образования, заведующим земельным отделом волости.
Тогда ведь тоже шла перестройка. И трудная.
И вдруг – опять война, теперь гражданская.
Сначала на нее пошел мой младший брат Женя. Я же говорил, что он был коммунистом. Когда фронт, казаки, приблизились к Козлову, он записался в Красную армию добровольцем, во время одной из добровольных мобилизаций. Но какой он был вояка… – обучения-то никакого. Очень скоро вся их группа попала в плен. Но казаки отнеслись к ним, показалось, по-хорошему: отпустили по домам, взяв подписку, что они снова не пойдут воевать. Казаки знали, что делали. Они сводили пленных в баню и выдали им чужое белье, сказав, что их белье отправлено в прожарку – вши же у всех были.
А оказалось, что всем выдали белье умерших от тифа. В то время в обеих армиях мор был большой от болезней. Меры принимались, но недостаточные, по-видимому. Вот так Женя вернулся домой в Изосимово больным. Бабуся баньку протопила, ухаживала за ним, как могла. Но он прожил дома только дня два-три и умер на наших с мамой руках. Отец об этом ничего не знал. Он в это время уже перестал жить с нами, с «красными», и по распоряжению архиерея получил свой приход в другом селе.
Вот тут и я подал заявление о добровольном вступлении в Красную армию. Воевал в качестве комиссара батальона на востоке, был при взятии Казани, Уфы. Ну а дальше – игра в карты и военный трибунал…
Когда после ночи перед возможным расстрелом, уже рядовым и исключенным из партии, я прозрел, меня отправляли обратно в Тамбов. Но я почему-то попросил направить меня не туда, а в другую часть, в Моршанск, в особый батальон Южного фронта. Не хотел, наверное, в таком виде ехать домой. Знал ведь: мой недоброжелатель – комиссар полка – так был уверен, что меня утром расстреляют, что, не дожидаясь утра, послал в Изосимово депешу о моем расстреле за игру в карты на фронте.
– В Моршанск я приехал совсем больным. По-видимому, на нервной почве все тело покрылось ужасными язвами, и меня направили в госпиталь. Врачи удивлялись, почему я не расчесал эти раны – они знали, что такие язвы очень чешутся. Но, побыв под военным трибуналом, я больше всего боялся, что, если расчесать раны, можно снова попасть туда же. Решат, что я сделал это специально, как «самострел», чтобы не воевать.
Итак, я начал лечиться в Моршанске. А в это время состоялся, не помню уже какой по счету, съезд партии, на котором очень настаивали на том, что молодежь должна учиться. Особенно те красноармейцы, что в это время были по болезни не в строю.
Речь Ленина меня потрясла. Я и сам, выходец из поповской среды, после всего случившегося, без всякой политграмоты понимал, что выходом из тупика, в котором оказался, для меня могла бы стать учеба. Только я не знал, как начать. Поэтому слова Ленина меня вдруг встряхнули, подняли на ноги. «Учиться! Учиться! Учиться!» – звучали в ушах ленинские слова. Я их просто распевал целыми днями.
Я проделал необходимые движения, подал заявления, и получил направление во вновь образованный Тамбовский сельскохозяйственный институт. Точнее, мне посоветовали подать туда заявление. Я подал его вместе с ходатайством Всероссийского главного штаба Красной армии о том, чтобы мне не чинили препятствий. Хотя какие препятствия – образование ведь у меня было. Но несмотря на то, что все так хорошо получилось – меня без всяких трудностей как простого красноармейца демобилизовали из армии, я стал одним из студентов института – мешало беспокойство за близких. То прозрение, которое случилось у меня в ночь перед возможным расстрелом, не давало покоя. Нужно было спасти мать и находящихся еще под ее крылом брата и сестру, оборвать их связи, все отношения с отцом – активным, служащим священником и врагом новой власти. Надо было как-нибудь перевезти их и укоренить в таком месте, где их прошлое не было бы известно никому. Я был уверен, что в самое ближайшее время власть нанесет удар по всем, кто как-то был связан с ее врагами.
Удивительно, но это большое, трудное и опасное дело мне удалось. Я решил сразу же продать изосимовский поповский дом, где мама жила с детьми одна, потому что папа уже ушел от них. Он получил у архиерея назначение священником в другое село, из которого сбежал поп, а мама отказалась ехать с ним.
К сожалению, я не встречался больше с папой. Я занимался другим. Дом поповский за мамой остался, а огород при доме у нее отобрали. Но кто же будет в селе покупать дом без огорода? А я ведь хотел его продать, чтобы на эти деньги купить маме другой дом в спокойном месте. Пришлось ехать в Козлов и оформлять огород опять, только теперь уже на себя. Для этого я ходил по земельным комиссиям, рискуя встретить там знакомых, знавших меня раньше. Когда же все бумаги были получены, и у нас появился огород, наш дом согласился купить мельник. Договорились, что он даст за него семь возов хлеба, муки.
Тогда я поехал в Козлов. На окраине городка, на Подгорной улице, последней в городке перед рекой, где и улицы-то настоящей не было – так, широкая тропинка перед обрывом к реке Воронеж, с одной стороны которой стояли дома, – я нашел почтового чиновника, который сказал мне, что он готов продать свой дом хоть сейчас за те семь возов хлеба. Договорились, что я завтра же привезу ему этот хлеб и он освободит дом. На другое утро на улицу Подгорную въехал целый обоз: семь подвод с хлебом и еще несколько подвод со всеми вещами из старого, изосимовского дома, мамой, Кланей и Колей.
И тут чуть не случилась трагедия. Почтовый чиновник вдруг заявил, что он передумал и уже не хочет продавать свой дом.
– Как это не хочет, если мы уже продали свой старый и теперь оказались на улице?
Вот тут мне пришлось проявить всю силу убеждения и словесного, и физического, которым я научился за годы империалистической и гражданской войн, чтобы этот чиновник понял, что у него нет выхода и он должен отдать дом, забрав ту цену, которую за него запросил. С тех пор мама стала жить в этом доме, где гостил и ты…
Ознакомительная версия.