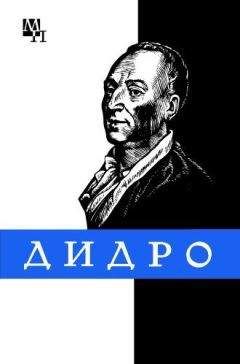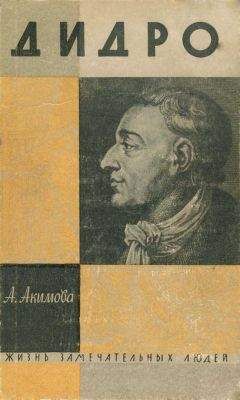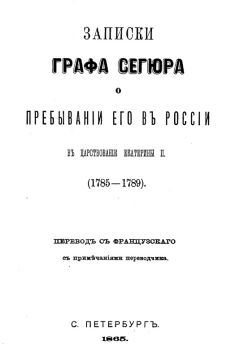Эта двуликость истины Просвещения и раскрывается в споре Рамо и философа по поводу воспитания. Если «все естественное разумно», то «какое воспитание можно назвать хорошим, как не то, которое ведет к всевозможным наслаждениям и позволяет безопасно и беспрепятственно пользоваться ими?» (3, 4, 184). Развивая эту мысль, Рамо приходит к выводу, что, предоставь он своему сыну расти, как растет трава (само это сравнение отнюдь не случайно), тот захотел бы богато одеваться, есть по-царски, быть баловнем мужчин, любимцем женщин и пользоваться всеми благами жизни. В этом как будто еще нет ничего дурного. Но если маленький дикарь и дальше останется таким же неразумным, а к его ребяческой глупости прибавятся буйные страсти тридцатилетнего мужчины, «он свернет шею отцу и осквернит ложе матери» (там же).
И не кто иной, как философ, считает необходимым не просто развивать все природные свойства, но воспитывать человека как существо, способное приносить личные интересы в жертву общим или во всяком случае разумно соотносить их. Для того чтобы правильно понять общественные интересы, надо стать просвещенным. Что говорит нам голос природы — спрашивает Дидро и отвечает: чтобы мы были счастливы. Нужно и можно ли ему сопротивляться? Нет. Наиболее добродетельный и наиболее испорченный человек одинаково подчиняются ему. Правильно, что природа говорит с ними на разных языках, но пусть все люди сделаются просвещенными — и она заговорит со всеми на языке добродетели.
Впоследствии К. Маркс увидит ограниченность взглядов просветителей, в частности, в непонимании того, что совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности осуществляется в революционной практике и что «воспитатель сам должен быть воспитан». В этом Дидро не поднялся над идеями своего времени; однако, раскрыв антиномичность «природы» и «воспитания», он смог приблизиться к пониманию реальных противоречий становящегося буржуазного общества и буржуазного сознания.
Если все свойства характера человека, все его желания и страсти обусловлены природой и побуждают не только к хорошим, но и к дурным поступкам, то коль скоро природа — единственное основание его бытия (а мировоззрение просветителей зиждется именно на этом фундаменте), помешать этому никак нельзя; иначе воспитание, способное «одолеть» природу, следовало бы признать — в противоположность ей — истинной основой человеческой жизни или по меньшей мере равнозначным ей фактором, а это противоречило бы исходной посылке о «естественности» человека. Но вместе с тем просветители не были бы просветителями, если бы они не признавали решающей роли воспитания, изменяющего природу, хотя сделать это, казалось бы, невозможно. Дидро открывает эту противоречивость в способе рассуждения просветителей, когда мысль все время движется между полюсами «природности» и «разумности», «природы» и «воспитания»; отправляясь от первоначального и как будто бесспорного их тождества, он показывает затем их противопоставленность друг другу и, наконец, раскрывает внутреннюю противоречивость каждого.
Этим он отличается от Гольбаха и Гельвеция. Так, Гольбах, разумеется, не мог не слышать упреков в аморальности, которые предъявлялись в то время представителям механического детерминизма в связи с тем, что фатализм должен привести к смешению или даже к уничтожению понятий справедливости и несправедливости, добра и зла и т. д. Но, по мнению Гольбаха, обвинения в безнравственности легко отвести, ибо «хотя человек решительно всегда поступает необходимым образом, но его поступки справедливы, хороши и похвальны во всех тех случаях, когда они направлены к реальной пользе его ближних и общества, в котором он живет…», и, «таким образом, учение о необходимости не только является истинным и основывается на надежном опыте, но дает, кроме того, прочную, непоколебимую основу морали» (14, 247; 252).
Дидро не может не согласиться с этим, однако в этой однородной и нерасчлененной системе взглядов он обращает внимание на антиномии природы и нравственности, природы и свободы. Так, по мнению философа, поведение Рамо, вне всякого сомнения, аморально, он удивляется Рамо, предполагая у него все же чувство некоторой «моральной брезгливости». Рамо не соглашается с этим, говоря, что никакой брезгливости у него нет, что ум у него «круглый, как шар, а характер — гибкий, как ива». Эти слова звучат совершенно естественно в устах человека, считающего, что, будучи продуктом природы, он не должен стыдиться своих потребностей и желаний. Направленные на удовлетворение потребностей, поступки его вообще не могут вследствие этого квалифицироваться как дурные или хорошие; речь может идти только о разных людях и разном их поведении. Бесполезно препятствовать природе, она все равно «возьмет свое»; говоря словами Дидро, «выгони ее в дверь, она влетит в окно». Но можно ли тогда требовать, чтобы человек поступал вопреки своей природе? А если нет, то имеет ли смысл говорить о нравственности? Ведь нравственные оценки предполагают похвалу хорошему воспитанию, мужеству человека, преодолевшего свои пороки и укрепившего добродетели, а коль скоро «о пороках позаботилась сама природа», то нравственность оказывается пустым звуком. Об этом, например, ведет речь Ламетри, убеждая читателей в том, что следует избавиться от угрызений совести (не случайно одно из важнейших его сочинений называется «Анти-Сенека, или Рассуждение о счастье»): «…если угрызения совести являются недействительным лекарством от наших недугов, если они замутняют даже самые чистые воды, нисколько не очищая при этом даже наименее мутные, то уничтожим их: пусть плевелы отныне не будут примешиваться к здоровым зернам жизни и пусть навсегда будет изгнана эта жестокая отрава» (16, 262). Существует ли вообще нравственность? Как будто бы нет. Справедливость, например, как думает Гельвеций, люди любят не ради нее самой, а ради той выгоды, которую та доставляет, и даже честность «есть лишь привычка поступать так, как выгодно этому лицу» (13, 1, 187). Ламетри высказывает в этой связи как бы кредо Просвещения: «Такова природа, сведенная к самой себе, как бы к ее чистой сущности» (16, 263). Итак, открывается, что истинность утверждения «поступать по природе — значит поступать нравственно» сомнительна: нравственность не вытекает из природы человека. Или, может быть, природа должна быть понята как-то по-другому?
Странность рассуждений просветителей заключается не только в том, что казавшиеся прежде тождественными понятия «нравственное» и «природное» распадаются и начинают противоречить Друг другу. Пусть бы пороки обусловливались человеческой природой — хоть и грустно, как признается Ламетри, что «судьба человечества попала в столь плохие руки, как его собственные», но, коль скоро это вытекает из логики вещей, с этим остается только примириться и попытаться сами пороки поставить на службу добродетели (как предлагали Гольбах, Гельвеций, Мандевиль). Странность также и в том, что, доведя свои рассуждения до подобных заключений, просветители спешат отказаться от них и начинают отстаивать то, что прежде отрицали. Так, Ламетри пишет о том, «какая радость делать добро, а также быть благодарным за добро, сделанное тебе другими; какое наслаждение проявлять добродетель и быть кротким, гуманным, нежным, милосердным, сострадательным и благородным (это последнее слово заключает в себе все добродетели)! Это дает такое удовлетворение, что я считаю уже достаточно наказанным того, кто имел несчастье родиться недобродетельным» (16, 203). Чувство справедливости, которое Ламетри относит к сфере действия «естественного закона», дается человеку от природы точно так же, как и его элементарные потребности; «естественный закон» написан в сердцах людей самой природой, поэтому и у закоренелых преступников «наступают спокойные минуты размышления, когда поднимает свой голос мстительная совесть, выступающая против них и осуждающая их на почти беспрерывные мучения» (там же). Ламетри поет гимн мужеству человека, преодолевшего свои порочные (природные!) наклонности, и советует каждому идти по этому трудному, но прекрасному пути.