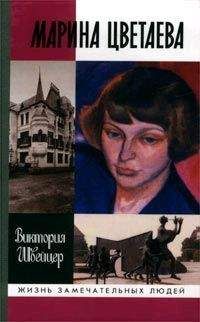После Литауэр Эфрон просит еще раз привести Николая Клепинина. Но между этими двумя очными ставками в протоколе, по словам Виталия Шенталинского, идет запись, которой нет в других публикациях: «Моя вербовка произошла в 1931 году. В конце своей деятельности во Франции я обнаружил, что работаю не только на советскую разведку, но и на французскую. Я действовал в связи с масонами, а вся масонская организация в целом и является органом французской разведки...» Шенталинский добавляет: «Под этими словами стоит подпись Эфрона. Откуда она взялась? Заставили подписать силой? Или подделали? Все может быть...» Однако, на мой взгляд, предложенная Эфроном формулировка обтекаема и двусмысленна. Он действительно был завербован в 1931 году, но не во французскую, а в советскую разведку; «Я обнаружил, что...» говорит о непреднамеренности и пассивности его сотрудничества (небывшего!) с французской разведкой; «я действовал в связи с масонами» – он и на самом деле входил в масонскую организацию по заданию НКВД. Таким образом, сделав это признание, Эфрон, может быть, отступил от своей твердости, но все еще не признал себя виновным.
Второй раз вводят Клепинина, который повторяет свои показания о шпионской деятельности Эфрона в пользу нескольких иностранных разведок. Теперь на очередной вопрос следователя: «На какие разведки вы работали?» – Эфрон, согласно машинописи, ответил: «Я работал на те же разведки, на которые работала группа моих товарищей». Но в очерке В. Шенталинского отмечена бесценная деталь: подписывая протокол, «Эфрон исправил эту фразу, переделал все на единственное число: "Я работал на ту же разведку, на которую..." —то есть подчеркнул, что вся группа работала на одну разведку – советскую». Из последних сил Эфрон старается держаться правды и отстаивает свою честь. Он повторяет: «Шпионом я не был».
Перед лицом следствия, применяющего «физические методы воздействия», и единомышленников, изобличающих его и уговаривающих сдаться, у него уже нет сил бесконечно повторять: отрицаю... отрицаю... отрицаю..., но хватает присутствия духа, чтобы исправить запись стенографистки. Для будущего он оставил «зарубку» о своем мужестве и честности.
Следующие полтора месяца его не допрашивают, а может быть, не сохранились протоколы. Затем следствие активизируется, допросы следуют с короткими промежутками. Исследователи отмечают, что на первом после перерыва протоколе подпись Эфрона почти неузнаваема. И однако на каждом допросе он снова и снова повторяет, что был секретным сотрудником НКВД – следователи как будто не слышат и игнорируют это – и ни с какой иностранной разведкой не связан. На вопрос, кого он завербовал для секретной работы на Советский Союз, Эфрон перечисляет двадцать четыре фамилии и даже указывает даты, когда произошла вербовка каждого; на вопрос, кого он завербовал во французскую разведку, отвечает: «Никого и никогда».
Следствие продолжалось девять месяцев. С 4 апреля по 30 мая Эфрон вновь находится в Лефортовской тюрьме. 2 июня 1940 года ему предъявили протокол об окончании следствия. В подписанном им документе говорится: «Обвиняемый Эфрон-Андреев С. Я., ознакомившись с материалами следственного дела, заявил, что следствие дополнить ничем не имеет». В принятой законом процедуре это значит, что допросы, очные ставки, «методы воздействия» окончены; дальше должно быть предъявлено обвинение и затем – суд. Но для Эфрона все еще не конец. Через неделю, 9 июня – что они сделали с ним за эту неделю?! – его снова привозят на допрос, и он признает, что является агентом французской разведки, с которой был связан через масонскую ложу «Гамаюн». Подпись – изломанная, едва узнаваемая. При внимательном изучении этого документа В. Шенталинский заподозрил, что перед ним фальшивка, отметив, что «признание» и подпись стоят слишком отдельно друг от друга. К тому же в постановлении 22 июня 1940 года – еще через две недели! – о продлении срока заключения Эфрона опять отмечено, что заключенный себя виновным не признал...
Здесь, к сожалению, нет согласованности в имеющихся публикациях: по книге И. Кудровой можно сделать вывод, что Эфрон получил обвинительное заключение 13 июля 1940 года и еще год ждал суда; по публикации М. Файнберг и Ю. Клюкина – обвинительное заключение было ему предъявлено за день до суда, 5 июля 1941 года. Впрочем, вне зависимости от точности этой даты, вина всех обвиняемых считалась доказанной.
Дело слушалось в закрытом судебном заседании, то есть без участия защиты, свидетелей и даже обвинения, Военной коллегией Верховного суда СССР. Напомню, что уже две недели шла война с Германией и, может быть, поэтому в НКВД «вспомнили» об этом затянувшемся деле. Заседание состоялось 6 июля 1941 года; обвиняемые встретились здесь в последний раз. Эти трагические минуты отчасти запечатлены в протоколе.
Э. Э. Литауэр и Н. А. Клепинин-Львов признали себя полностью виновными и просили сохранить им жизнь. П. Н. Толстой виновным себя не признал, отказался от всех своих показаний в процессе следствия, но снова повторил, что Сергей Эфрон работал на французскую разведку. Н. В. Афанасов тоже не признал себя виновным: «Шпионом против СССР я не был. Я был честным агентом советской разведки». А. Н. Клепинина-Львова и С. Я. Эфрон-Андреев признали себя виновными в том, что «были участниками контрреволюционной организации „Евразия“». Эфрон добавил: «шпионажем я никогда не занимался. Показания Толстого, данные им на судебном следствии о том, что я, якобы, работал в пользу французской разведки, я категорически отрицаю». В последнем слове Сергей Яковлевич повторил: «Я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки. Я знаю одно, что начиная с 1931 года вся моя деятельность была направлена в пользу Советского Союза. Прошу объективно рассмотреть мое дело». О «справедливом решении» просила суд и Нина Николаевна Клепинина.
Приговор для всех был одинаков: «Подвергнуть высшей мере наказания – расстрелу, с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества». И уточнено: «Приговор окончательный и обжалованью не подлежит»... Но может быть, тех, кто сразу «признался», меньше мучили?
Показательно, что в процессе следствия почти не возникал вопрос об убийстве И. Рейсса. Из этого некоторые исследователи хотят сделать вывод – на мой взгляд неверный, – что Эфрон не имел отношения к этому делу, что все минувшие десятилетия ему несправедливо приписывали участие в этом убийстве. Я думаю, что, во-первых, в НКВД отлично знали обо всей предыдущей деятельности своих секретных агентов – зачем же спрашивать? А во-вторых, в данном случае она их совершенно не интересовала: что могли извлечь из нее следователи для своего «дела»? Сам же Сергей Яковлевич ко времени ареста, вероятно, понимал участие в убийстве как тяжкое моральное преступление – не об этом ли рыдал он в своей комнате? – и не мог позволить себе выдвигать это в свою защиту. Впрочем, и без дела Рейсса ему хватало причин для отчаяния: скольких людей он обманул, привлекая к работе на советскую разведку? Скольких отправил умирать в Испанию и в Советский Союз?