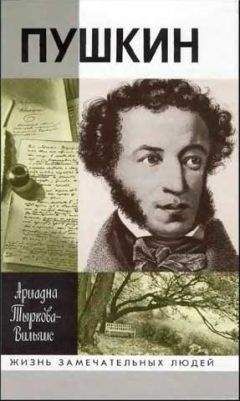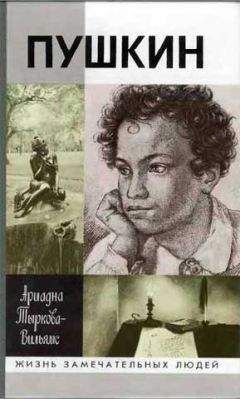Послав Геккерну письмо, Пушкин, как он сказал Даршиаку, впервые за два месяца вздохнул свободно. Вяземский писал потом Смирновой-Россет: «Необузданный, пылкий, беспорядочный, сам себя не помнивший во всех своих шагах, он сделался спокоен, прост и полон достоинства, как скоро добился, чего желал. Ибо он желал этого исхода».
Пушкин посветлел. В нем даже мелькнул прежний шаловливый Пушкин. 25 января, после свидания Натали с Дантесом, когда неизбежность дуэли стала очевидной, Пушкин, вместе с Жуковским, пошел к Брюллову в мастерскую. В тот же день художник Мокрицын отметил это посещение в своем дневнике. Оба поэта рассматривали альбомы и рисунки. Пушкину особенно понравился комический этюд – «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне». На нем было изображено, как толстый турок-полицейский спит на коврике посреди улицы. Его стерегут два босых, тощих городовых. Пушкин хохотал до слез, не мог расстаться с этим рисунком, просил подарить его ему. Брюллов отказал. Рисунок сделан для князя Салтыкова, он не может его отдать. Пушкин бросился на колени: «Отдай, голубчик!» Но рисунка так и не получил.
Лернер имел право написать: «Наш великий поэт умел не только бороться с враждебными людьми и обстоятельствами, но и забывать их, что гораздо труднее, и хоть на краткий миг смирить предчувствие близкого конца и воскрешать в душе беззаботную веселость юношеских дней».
В день получения письма от Пушкина Геккерн обедал у графа Строганова, которому показал письмо Пушкина и спросил совета. Старый граф сказал, что надо драться. 26 января барон Даршиак, секундант Дантеса, привез Пушкину вызов от Геккерна-младшего и письмо от Геккерна-старшего. Вызов Пушкин принял. Письмо голландского посланника вернул не читая.
Графа Соллогуба уже не было в Петербурге. Надо было искать другого секунданта. Это оказалось не так легко. Закон относился сурово и к дуэлянтам, и к секундантам. Их в наказание сажали в крепость или сдавали в солдаты. Пушкин не хотел подводить друзей и боялся, что они опять помешают поединку. На этот раз он решил пойти до конца. Ему было нетрудно скрыть новый вызов от домашних. Может быть, о нем знала Александра Гончарова, да и то не наверно. Из друзей едва ли не первая узнала княгиня В. Вяземская.
Вечером 26 января, в канун дуэли, Пушкин был у нее. Было еще несколько человек, был и Дантес с женой. Пушкин сел играть в шахматы, изредка поглядывая сквозь открытую дверь в соседнюю гостиную, где Дантес сидел возле Натальи Николаевны, которая весело смеялась его шуткам. Этот вечер Вяземская описала в письме, писанном несколько дней спустя, вероятно, первого февраля.
«Смотря на Дантеса, Пушкин сказал мне:
– Что меня забавляет, это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что его ожидает по возвращении домой.
– Что именно? Вы ему написали?
Он сделал утвердительный знак и прибавил:
– Его отцу.
– Как? Письмо уже послано?
Он сделал тот же знак. Я сказала:
– Сегодня?
Он потер руки, опять кивая головой.
– Неужели вы думаете об этом? Мы надеялись, что все кончено.
Тогда он вскочил, говоря мне:
– Разве вы принимаете меня за подлеца? Я уже вам сказал, что с молодым человеком мое дело кончено. Но с отцом дело другое».
Вяземского не было дома. Когда он вернулся, княгиня ему это рассказала, но они решили, что уже поздно, что утром будет виднее, как действовать.
Еще до разговора с женой, на балу у Разумовских, Вяземскому было дано предостережение. Он давно тревожился за Пушкина, находил, что в ту зиму судьба охотилась за ним, как злая обезьяна. Увидав у Разумовских, что Пушкин о чем-то слишком оживленно разговаривал с Даршиаком, Вяземский забеспокоился и подошел к ним. Они замолчали. Спокойствие Пушкина обмануло его.
На этот бал Пушкин приехал без жены, в поисках секунданта. Если бы Вяземский это знал, он, может быть, постарался бы отогнать злую обезьяну. Хотя вряд ли ему это удалось бы. Смерть уже чертила вокруг Пушкина свой магический круг. Но как это было угадать? Пушкин, по словам Тургенева, который тоже видел его на этом балу у Разумовских, «был весел, полон жизни, без малейших признаков задумчивости». Совершенно таким, каким Тургенев видал его изо дня в день. Только, пожалуй, веселее.
На балу Пушкин обратился к секретарю английского посольства Артуру Меджнису, просил его в секунданты. Они встречались в свете, бывали друг у друга… «Меджнис был долгоносый англичанин, которого прозвали больным попугаем, – писал Н. М. Смирнов. – Это был человек очень порядочный. Пушкин уважал его за честный нрав».
Меджнис сказал, что не может дать ответа, не переговорив с Даршиаком. Из разговора с секундантом Дантеса Меджнис убедился, что дело гораздо серьезнее, чем он думал, что нет никакой надежды примирить противников. Он стал разыскивать Пушкина, но тот уже уехал с бала. Был второй час ночи. Меджнис постеснялся поехать к семейному человеку так поздно и отложил свой ответ до утра. Шаги Командора приближались.
В среду, 27 января, в день дуэли, Пушкин провел утро, как обычно, был так спокоен, что домашние могли не подозревать, что он замыслил, к чему готовился. Казалось, Наталья Николаевна после того, как муж узнал об ее тайном свидании с Дантесом, могла бы тревожиться. Но она по-прежнему была уверена, что все с рук сойдет, что «ничего не случится, будет все то же, что было два года».
Ее сестра, Александра Гончарова, что-то знала или подозревала. Но она никому ни тогда, ни после не открылась. Так и осталась в тени, молчаливая, замкнутая, преданная. Что знала, то знала, что Пушкину давала, то давала.
В тот день Пушкин встал в 8 часов, напился чаю, казался веселым, ходил по квартире, напевая какие-то песенки. В 11 часов пообедал с детьми, сидел в кабинете, разбирал бумаги, просматривал рукописи, читал. В это утро, против обыкновения, никто к нему не заглянул. Почему-то не приехал и Вяземский, хотя его жена накануне рассказывала ему, что Пушкин отправил Геккерну вызов. Никто не встал между ним и судьбой.
Рано утром пришли два письма, от Даршиака и от Меджниса. Английский дипломат отказывался быть секундантом: «Я вижу, что дело вряд ли может окончиться примирением, – а только это и могло бы побудить меня принять в нем участие. Поэтому я прошу Вас не возлагать на меня тех обязанностей, о которых Вы говорили» (27 января 1837 г.).
Даршиак настаивал, чтобы Пушкин безотлагательно указал своего секунданта, с которым ему необходимо переговорить. Пушкин ответил ему довольно резко:
«Я совсем не желаю посвящать в мои семейные дела всех праздношатающихся Петербурга. Поэтому я против всяких переговоров между секундантами. Своего я привезу прямо на место поединка. Так как вызов исходит от г. Геккерна и он сторона оскорбленная, то он, если ему угодно, может выбрать мне секунданта. Я вперед на него согласен, даже если это будет его слуга. Относительно времени и места, я в его распоряжении. По нашим русским правилам, этого и довольно. Прошу Вас, г. Виконт, верить, что это мое последнее слово, и что я тронусь с места только для того, чтобы явиться на поединок…» (27 января 1837 г.).