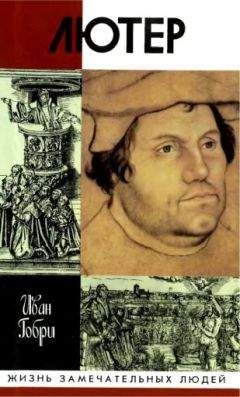Почему-то, когда юный брат Мартин возмущался безнравственным поведением римских прелатов, вину за эти безобразия он поспешил возложить на Церковь, но теперь, когда те же пороки, словно раковая опухоль, принялись разъедать уже его Церковь, виноватым оказался «мир» — мир в понимании св. Иоанна, отягощенный множественными последствиями первородного греха. Толпа ошибается, упрекая пастырей и паству новой Церкви. Источник зла — вовсе не он, Мартин Лютер, а сам сатана. Человек греховен изначально, так чему же удивляться, если сатана, не жалеющий сил, лишь бы навредить богоугодному начинанию, постарался внедрить в его Церковь свои гнусности и мерзости? Паписты верят в свободу воли, следовательно, их грехи непростительны и за все творимое ими зло они несут полную ответственность. Но для лютеран, признающих догмат о порабощенной воле, греха как такового не существует. Они — всего лишь жертвы, и Церковь их чиста.
«Мир, — вещал Лютер своим сотрапезникам, — считает себя раем, а Божью Церковь, Церковь Господа нашего Иисуса Христа сравнивает с ужасным чудовищем. Но ведь Церковь эта владеет всей чистотой учения и твердо защищает его. И потому в глазах Божьих она бесценна, любима и исполнена достоинства. И мы не должны обращать внимания на то, что думают о нас в миру, и не должны бояться того, что о нас говорят». Эта проблема настолько занимала его, что он обращался к ней еще не раз: «Многие люди относятся к Церкви как к громоздкому камню, споткнувшись о который легко переломать себе ноги. Они считают, что Церковь должна оставаться незапятнанно чистой, как Божий голубь, сияющий безупречной белизной. Перед Богом Церковь действительно такова, но здесь, в миру, она больше походит на своего Жениха Небесного Иисуса Христа, который, по словам Исайи, был самым жалким и презираемым из людей, снедаемым скорбями, мучимым болезнями и на вид таким безобразным, что люди закрывали себе руками лицо, лишь бы не глядеть на Него».
Но порой и он, не сдержавшись, с возмущением указывал на несоответствие между волей Христа, ясно выраженной в Евангелии, и моральным обликом евангелистов, вроде бы обязанных руководствоваться в жизни Христовыми заветами: «Миссия и все дело Христа состоят в том, чтобы в каждый миг нашей жизни сделать нас свободными от смерти и греха, сообщая нам Свою святость и Свою жизнь. Увы! На деле все происходит не так, и учение Христа до сих пор служило лишь усугублению хаоса в мире». Трагизм окружающей жизни он готов был объяснить приближением конца света. «В первые времена, когда только начиналась проповедь Евангелия, дело шло более или менее терпимо. Но теперь, когда исчез Божий страх, когда порок и бесчестье с каждым днем все громче заявляют о себе, когда продажность одних натыкается на глупость других, порождая лжеучения, чего, кроме светопреставления или иной катастрофы ожидать нам, в мерзостях своих докатившихся до предела?» «С той поры, как миру открылась евангельская истина, потрясшая его до основания, он трещит по всем швам, и близок час всеобщей погибели. Последний день, прихода которого мы ждем с таким нетерпением, уж недалек!» Порой он с беспощадной суровостью принимался бичевать грешников. Каждого, кто повинен в преступлениях против общества, следует «послать ко всем чертям, а прах отправить на свалку». Прихожан, забывающих ходить к причастию, надо «зарывать в землю, как собак». Что касается светской власти, то ей надлежит принимать принудительные меры к тому, чтобы все граждане исправно ходили к исповеди и изучали катехизис[29].
В той тревожной обстановке, отмеченной расхождением между верой и практическими делами, слишком многие жили предвкушением наступления последних времен. «Я чрезвычайно удивлен, — писал Лютер, — но не могу не заметить, что чем усерднее проповедуем мы жизнь во Христе, тем ощутимее становится в народе страх перед смертью». Некоторое время спустя он с не меньшим изумлением наблюдал рост числа самоубийств в рядах адептов новой веры. Он объяснял это явление происками дьявола, от имени Бога карающего тех, кто посмел ослушаться Слова Божьего.
Не один Лютер жаловался на неприятности. Невеселые мысли одолевали многих из его сторонников. В 1539 году Меланхтон отмечал: в среде протестантов «бушуют бесчисленные склоки и скандалы, отвращающие от нас добродетельных людей». Кто виноват в этих бедах? «Это все он, бес, всегда готовый обратить добро во зло». Шестью годами позже в письме к Камерарию он признавал, что внутри его Церкви по вине «духа злобы» пустило корни зло. Впрочем, тут же подчеркивал он, именно новые приходы являются хранилищами истинного учения. Еще несколько лет спустя он отмечал рост числа безбожников и зарождение «чудовищных сект». И соглашался, что эти приметы свидетельствуют о приближении конца света.
То же разочарование сквозит в письмах суперинтенданта Люнебурга Урбана Регия. В городах, называющих себя «евангельскими», жаловался он, «повсюду бал правят алчность и корысть». «Никто не святотатствует и не упоминает имени Божьего всуе с такой привычной легкостью, как протестанты: и молодежь, и старики клянутся и кощунствуют напропалую и по любому поводу». «Теперь, когда мир осчастливило новое учение Иисуса Христа, появилось — странное дело! — больше, чем когда бы то ни было душ, на словах почитающих Христа, но на деле ищущих одних лишь земных благ, богатства и почестей». «Нынче не осталось ни одного разбойника, бродяги и мошенника, который не прикрывался бы в своих преступных деяниях Евангелием».
Еще дальше в своих обобщениях пошел Антон Корвин, суперинтендант из Брауншвейга, более известный как один из организаторов Марбургского университета — первого высшего учебного заведения, основанного князем-протестантом с целью распространения нового вероучения. «Мы много рассуждаем о евангельском учении, — писал он в 1537 году, — и хвастаем, что овладели всей его чистотой. Между тем среди нас едва ли найдется один или двое на тысячу, кто своим поведением и моральным обликом не вступал бы в вопиющее противоречие с этим учением». Далее бывший цистерцианин, привыкший рассуждать о проблемах совести, добавляет: «Я чувствую себя виноватым не меньше других; не меньше других я труслив, невежествен, порочен и многогрешен». И он делает вывод: творить добрые дела необходимо, нечего рассчитывать на одну только веру, не подкрепляя ее практическими добродетелями. В обратном случае, пророчествует Корвин, мир придет к всевластию сатаны.
Примерно о том же говорил и ближайший ученик Лютера Файт Дитрих: все сословия «погрязли в коррупции, для всех в равной мере стали нормой бесстыдство и безнравственность». Приобщившиеся к Слову Божию «предаются разврату, прелюбодействуют, жаждут обогащения, дают деньги в рост, обманывают, лгут и совершают иные не менее гнусные проступки». Как и Лютер, он ясно понимал, какую выгоду могут извлечь для себя паписты, наблюдая за этим разгулом безобразий. «Наши враги прекрасно видят, как мы распутны, корыстолюбивы, эгоистичны, алчны, как теми, кто прикрывается Евангелием, владеет торгашеский дух, гордыня, любовь к роскоши и излишествам, лживость и плутовство. И они приходят к выводу, что все эти бесчинства суть плоды проповеди нашего Евангелия. Если б учение было добрым, заявляют они, поступки и нравственный облик его последователей не могли бы быть столь дурны». Глубочайшая печаль, терзавшая его душу многие годы, порой прорывалась в таких строках: «Если б пролитые мною слезы заставили выйти Дунай из берегов, и тогда не утихла бы моя боль за нынешнее состояние протестантской Церкви».