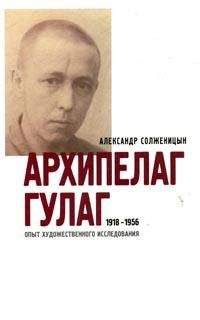Ознакомительная версия.
Мы выходим на площадь с Ярославского вокзала. Надзиратели мои опять попались новички, Москвы не знают. Поедем трамваем «Б», решаю я за них. Посреди площади у трамвайной остановки — свалка, время перед работой. Надзиратель поднимается к вагоновожатому и показывает ему книжечку МВД. На передней площадке, как депутаты Моссовета, мы важно стоим весь путь и билетов не берём. Старика не пускают: не инвалид, через заднюю влезешь!
Мы подъезжаем к «Новослободской», сходим — и первый раз я вижу Бутырскую тюрьму извне, хотя четвёртый раз уже меня в неё привозят, и без труда я могу начертить её внутренний план. У, какая суровая высокая стена на два квартала! Холодеют сердца москвичей при виде раздвигающейся стальной пасти этих ворот. Но я без сожаления оставляю московские тротуары, как домой иду через сводчатую башенку вахты, улыбаюсь в первом дворе, узнаю знакомые резные деревянные главные двери — и ничто мне, что сейчас поставят — вот уже поставили — лицом к стене и спрашивают: "Фамилия? имя-отчество?… год рождения?…"
Фамилия!.. Я — Межзвёздный Скиталец! Тело моё спеленали, но душа — неподвластна им.
Я знаю: через несколько часов неизбежных процедур над моим телом — бокса, шмона, выдачи квитанций, заполнения входной карточки, прожарки и бани — я введён буду в камеру с двумя куполами, с нависающей аркой посередине (все камеры такие), с двумя большими окнами, одним длинным столом-шкафом — и встречу не известных мне, но обязательно умных, интересных, дружественных людей, и станут рассказывать они, и стану рассказывать я, и вечером не сразу захочется уснуть.
А на мисках будет выбито (чтоб на этап не увезли): «Бутюр». Санаторий Бутюр, как мы смеялись тут прошлый раз. Санаторий, мало известный ожирелым сановникам, желающим похудеть. Они тащат свои животы в Кисловодск, там вышагивают по маршрутным тропам, приседают, потеют целый месяц, чтобы сбросить два-три килограмма. В санатории же Бутюр, совсем под боком, любой бы из них похудел на полпуда в неделю безо всяких упражнений.
Это — проверено. Это не имело исключений.
* * *
Одна из истин, в которой убеждает тебя тюрьма, — та, что мир тесен, просто очень уж тесен. Правда, Архипелаг ГУЛАГ, раскинутый на всё то же пространство, что и Союз Советов, по числу жителей гораздо меньше его. Сколько их именно в Архипелаге — добраться нам невозможно. Можно допустить, что одновременно в лагерях не находилось больше двенадцати миллионов (одни уходили в землю, Машина приволакивала новых). И не больше половины из них было политических. Шесть миллионов? — что ж, это маленькая страна, Швеция или Греция, там многие знают друг друга. Немудрено же, попади в любую камеру любой пересылки, послушай, разговорись — и обязательно найдёшь с однокамерниками общих знакомых. (Да что там, если Долган, в одних одиночках год пересидев, попадает после Сухановки, после рюминских избиений и больницы, в лубянскую камеру, называет себя — и шустрый Ф. сразу ему навстречу: "А-а, так я вас знаю!" — "Откуда? — дичится Долган. — Вы ошибаетесь." — "Ничуть. Ведь это вы тот самый американец Александр Долган, о котором буржуазная пресса лгала, что вас похитили, а ТАСС опровергало. Я был на воле и читал.")
Люблю этот момент, когда в камеру впускают новенького (не новичка — тот входит подавленно, смущённо, а уже сиделого зэка). И сам люблю входить в новую камеру (впрочем, Бог помилуй, больше бы и не входил) — беззаботная улыбка, широкий жест: "Здорово, братцы! — Бросил свой мешочек на нары. — Ну, какие новости за последний год в Бутырках?"
Начинаем знакомиться. Какой-то парень, Суворов, 58-я статья. На первый взгляд ничем не примечателен, но лови, лови: на Красноярской пересылке был с ним в камере некий Махоткин…
— Позвольте, не полярный лётчик?
— Да-да, его имени…
— …остров в Таймырском заливе. А сам он сидит по 58–10. Так скажите, значит пустили его в Дудинку?
— Откуда вы знаете? Да.
Прекрасно. Ещё одно звено в биографии совершенно неизвестного мне Махоткина. Я никогда его не встречал, никогда может быть и не встречу, но деятельная память всё отложила, что я знаю о нём: Махоткин получил червонец, а остров нельзя переименовать, потому что он на картах всего мира (это же — негулаговский остров). Его взяли на авиационную шарашку в Болшево, он там томился, лётчик среди инженеров, летать же не дадут. Ту шарашку делили пополам, Махоткин попал в таганрогскую половину, и кажется все связи с ним обрезаны. В другой половине, в рыбинской, мне рассказали, что просился парень летать на Дальний Север. Теперь вот узнаю, что ему разрешили. Мне это — ни за чем, но я все запомнил. А через десять дней я окажусь в одном бутырском банном боксе (есть такие премиленькие боксы в Бутырках с кранами и шайкой, чтобы большой бани не занимать) ещё с неким Р. Этого Р. я тоже не знаю, но оказывается, он полгода лежал в бутырской больнице, а теперь едет на рыбинскую шарашку. Ещё три дня — и в Рыбинске, в закрытом ящике, где у зэков обрезана всякая связь с внешним миром, станет известно и о том, что Махоткин в Дудинке, и о том, куда взяли меня. Это и есть арестантский телеграф: внимание, память и встречи.
А этот симпатичный мужчина в роговых очках? Гуляет по камере и приятным баритоном напевает Шуберта:
И юность вновь гнетёт меня,
И долог путь к могиле…
— Царапкин, Сергей Романович.
— Позвольте, так я вас хорошо знаю. Биолог? Невозвращенец? Из Берлина?
— Откуда вы знаете?
— Ну как же, мир тесен! В сорок шестом году с Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским…
…Ах, что это была за камера! — не самая ли блестящая в моей тюремной жизни?… Это было в июле. Меня из лагеря привезли в Бутырки по загадочному "распоряжению министра внутренних дел". Привезли после обеда, но такая была нагруженность в тюрьме, что одиннадцать часов шли приёмные процедуры, и только в три часа ночи, заморенного боксами, меня впустили в 75-ю камеру. Освещённая из-под двух куполов двумя яркими электрическими лампами, камера спала вповалку, мечась от духоты: жаркий воздух июля не втекал в окна, загороженные намордниками. Жужжали бессонные мухи и садились на спящих, те подёргивались. Кто закрыл глаза носовым платком от бьющего света. Остро пахла параша — разложение ускорялось в такой жаре. В камеру, рассчитанную на 25 человек, было натолкано не чрезмерно, человек восемьдесят. Лежали сплошь на нарах слева и справа и на дополнительных щитах, уложенных через проход, и всюду из-под нар торчали ноги, а традиционный бутырский стол-шкаф был сдвинут к параше. Вот тут-то и был ещё кусочек свободного пола, и я лёг. Встававшие к параше так до утра и переступали через меня.
Ознакомительная версия.