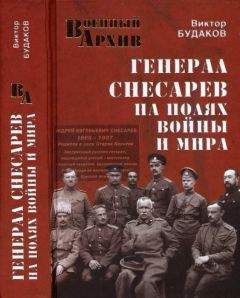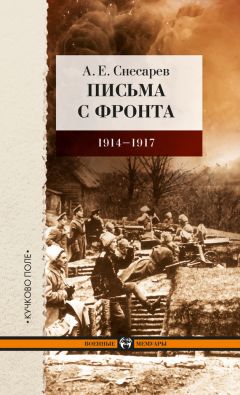10
В августе 1932 года по лагерям было распространено письмо начальника второго отделения Свирлага Э.И. Онегина: литераторам, учёным и инженерно-техническим специалистам не только разрешалось, но и настоятельно предлагалось заняться литературной и научно-исследовательской работой. Снесарев подал соответствующее заявление начальнику лагерного пункта, принявшему его «спокойно и деловито». Андрей Евгеньевич указал, что хочет написать две книги из четырёхтомника «Индия. Страна и народ», мемуарное размышление «Во главе двух дивизий» и ещё «Очерки современной стратегии», по которым материал собран, продуман, а курс «Современной стратегии» и прочитан в Военной академии.
«Вот и нашёл себе Онегин дело — пушкинский Онегин, лишний человек. Не может быть человек лишним», — с грустно-шутливой улыбкой подумал Снесарев.
Всё время думает о дочери. Незадолго до её очередного приезда, обрадованный её двумя огромными письмами, записывает в дневнике: «Она несомненный талант: остроумна, жива, мило-мечтательна и натуральна… всё вытекает легко и само собою, как течёт ручей, струями и пеной ниспадая по камням. Как она даровита, драгоценная моя дочка…»
Рисовальщица, танцовщица, актриса! Нет, жизнь от неё требует другого — самоотверженности и жертвенности.
«15 сентября 1932 года я снова выехала к папе, захватив с собой сколько можно съестного… Эта поездка как сейчас стоит перед моими глазами. Как всегда, была пересадка в Лодейном Поле. Какой-то молодой человек, тоже ожидавший пересадки, помог мне с моими тремя чемоданами. На станции Свирь поезд стоял одну минуту, он вытащил чемоданы на перрон и бросился к уже трогающемуся поезду. Вокзал был передо мной, но дойти до него с моими чемоданами было невозможно. Тут же вскоре справа и слева раздалось два голоса: “Вам в зал ожиданий? Разрешите помочь?” Два молодых человека в военной форме дотащили мои вещи, предложили довезти утром на казённой лошади до Важино. Мы сидели, разговаривали. Вошёл небольшой старичок и спросил: “Есть кто на Важино?”. Я вскочила: “Я поеду”. Молодые люди дёрнули меня с обеих сторон: “Вы знаете этого человека?” — “Нет”. — “Мы в форме и вооружены, но не решаемся ехать этими местами ночью. Поедем утром. Не рискуйте”. Я поехала».
Дочь Снесарева была уже взрослой девушкой, вполне способной соизмерять последствия того или иного поступка, но именно это её решение, продиктованное стремлением как можно быстрее увидеть отца и обезопасить себя от непредвиденных лагерных неудач, вроде утреннего отъезда из зоны начальника (как и случилось в действительности), свидетельствует о силе её дочерниного чувства — самоотверженного, беззаветного, жертвенного; если бы кто, скорее, из женщин-писательниц с проникновенным сердцем и философским взглядом взял на себя труд составить всемирную книгу-антологию «Отец и дочь», в этой антологии естественным был бы рассказ о Евгении Андреевне Снесаревой.
«Ехать было 12–15 км, и посередине пути мне стало на один миг страшно. Дорога шла лесом, вся выстланная деревянным настилом… И вот поднялись мы в гору, светила яркая луна, вышедшая из облака, старик остановился, и из лесу послышался долгий, сильный свист. У меня душа ушла в пятки. Потом старик тронул лошадей, и мы снова поехали. Довёз прямо до хозяйки, Анастасии Ивановны, где мы всегда останавливались. С утра я пошла к начальству, обутая в высокие сапоги хозяйки, по запани… Вскоре пришёл начальник и улыбнулся. “Мы с вами только что на запани разошлись, и я подумал, она ко мне, видимо, приехала к мужу или отцу на свидание”. Велел вызвать папу и дал сначала 12 часов личного свидания, потом прибавил ещё 6. Папа был страшно худ и бледен. Он только что чем-то отравился и был болен. Тонкая шея виднелась в широчайшем воротнике. Отношение к нему со всех сторон было хорошее…»
К концу 1932 года многие из военных вернулись, среди близко-знакомых — Бесядовский, Сапожников, Свечин, Сегеркранц, Голубинцев, Сухов. К тому времени и приём в прокуратуре на Спиридоновке стал проще. Не нужно было записываться заранее, в приёмные дни можно было попасть в живой очереди. Мать с дочерью обычно ходили вместе, чтобы каждой иметь полноту знания вопроса. Прокурор Фаддеев — высокий, спокойный, доброжелательно настроенный человек — принял заявление о пересмотре дела и посоветовал также обратиться к наркому Ворошилову — требуется его виза. Так и поступили, но дело с мёртвой точки не сдвинулось. Как вспоминает дочь, «заявление поступило к некоему Агееву, который, зная, что папе 67 лет, ответил, что это возраст запаса, который их не касается, к тому же срок 10 лет, а за таких они не хлопочут. У Тухачевского тоже оказалась стена непроходимая. Были бесплодными звонки и чаяния приёма у многих боссов Военного комиссариата: одни делали вид, что ничего о вынесенном приговоре не знают, другие “не знали” об аресте. Третьи обещали принять и не принимали, назначали приходить, а сами не приходили (Летуновский, управляющий делами комиссариата); некоторые принимали стоя и задавали вопросы типа: “Зачем вы к нам обратились, мы не карающая организация, мы строим оборону страны…”»
СОЛОВКИ — МОНАСТЫРЬ И КОНЦЛАГЕРЬ. 1932
3 ноября его внезапно разбудили, повезли под конвоем группу в вагоне на пристань, где изготовилась к отплытию баржа «Клара». Что-то неуклюже-тяжёлое, днищем давящее в этом издалека приплывшем слове «баржа». Памятная — царицынская. А ещё прежде — кронштадтская, балтийская. Были еще крымско-черноморские, каспийские, беломорские баржи. Все или расстрельницы, или утопленницы. Эта куда?
С 5 ноября 1932 года Андрей Евгеньевич Снесарев — на Соловках. Никого за пределы лагеря не отпускают, и ходит слух, что на границе неспокойно, и может прийти пароход и захватить политических. Но чей пароход? Советский? Иностранный? Узник-учёный вспоминает «пароход учёных», там были его знакомые, но и сейчас он бы не принял путь ушедших, не изгнанных, а ушедших: крестный путь пройди на родине!
Сначала — деревянные бараки. Затем — монастырь, кремль… был Кремль Московский — начало жизни, теперь кремль соловецкий — излёт жизни, тесное проживание в бывших кельях; в час ночной бессонницы однажды живыми явились монахи — основатели монастыря — святые Савватий, Герман, Зосима; стало легче, словно побывал на последней исповеди.
Направили Андрея Евгеньевича в древоотделочный цех изготавливать пресс-папье. Потом перевели в полировочный цех, где он раскрашивал подставки для деревянных фигурок — солдатиков, медведей; в каком-то уголке, поди, и сохранились? Далее покрывал лаком шахматные фигуры… А где-то разыгрывается великая шахматная игра, ещё в полную силу играет Алехин, гениальный земляк, и ещё не скоро будет написана «Великая шахматная доска».