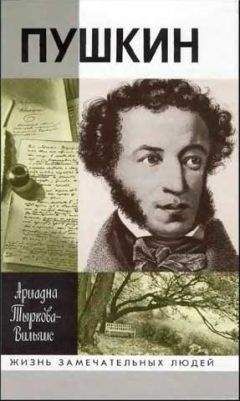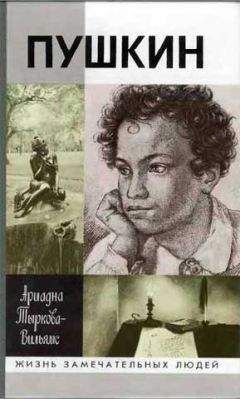– Ну, подымай меня, идем… да выше, выше… идем…
Опять пришел в себя, открыл глаза, повторил:
– Ну пойдем, пожалуйста, да вместе…
Даль поднял его выше. Друзья молча стояли вокруг него. Натальи Николаевны не было. Пушкин вдруг открыл глаза. Лицо его прояснилось:
– Кончена жизнь, – сказал он. Даль не расслышал, переспросил:
– Что кончено?
– Жизнь кончена, – внятно повторил Пушкин и прибавил: – Тяжело дышать. Давит…
Это были его последние слова.
29 января 1837 года, в 2 часа 45 минут Пушкин скончался. Умер тихо, так тихо, что Даль не уловил последнего вздоха.
«Божественное спокойствие разлилось по его лицу», – писала Вяземская. «Друзей поразило величавое и торжественное выражение лица его. На устах сияла улыбка, как будто отблеск несказанного спокойствия, на челе отразилось тихое блаженство осуществившейся светлой надежды». Так позже передала княгиня Е. Н. Мещерская Якову Гроту то величавое воспоминание, которое сохранила она от мертвого лица поэта.
Она же, под свежим впечатлением тяжкой утраты, писала своей невестке:
«И голова, и сердце у нас были полны мыслями о тяжких моральных страданиях, которые предшествовали этому трагическому концу: и чувством восхищения и умиления, которыми эта смерть, такая прекрасная, такая спокойная, такая христианская и поэтическая наполнила душу друзей его».
«Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо, – написал Жуковский С. Л. Пушкину. – Никогда на этом лице я не видел ничего подобного тому, что было на нем в первую минуту смерти.
Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это был не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также выражение поэтическое. Нет. Какая-то глубокая удивительная мысль на нем разливалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, важное, удовлетворенное знание. Я уверяю тебя, что никогда на лице его я не видал выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, таилась в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина».
Глава XXX
ПОСЛЕДНИЕ ПОЧЕСТИ
Его и мертвого не оставили в покое.
Когда разнеслась по Петербургу страшная весть, что Пушкин смертельно ранен, началось паломничество к дому Волконских на Мойке, где он жил. Стояли на улице, смотрели в окна квартиры, где умирал поэт. Кто посмелее, подымался по лестнице, пробирался в переднюю, чтобы узнать, есть ли надежда. Когда он скончался, тысячи людей, желавших проститься, с усопшим, прошли через его квартиру.
«В эти оба дня та горница, где он лежал во гробе, была беспрестанно полна народом, – писал Жуковский Пушкину-отцу. – Конечно, более 10 000 приходило взглянуть на него; многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в его лицо; было что-то разительное в его неподвижности посреди этого движения и что-то умилительно таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума».
Никто из друзей не отметил тогда смуглого, молодого гусарского офицера, который пришел проститься со старшим поэтом. Но после этих траурных дней имя Лермонтова, раньше мало кому известное, слилось с именем Пушкина. Весь читающий Петербург повторял его стихи:
Погиб поэт! невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой.
С свинцом в груди и жаждой мести
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один как прежде… И убит!
К тяжкому чувству непоправимой народной утраты примешивалось негодованье против чужеземца, у которого поднялась рука на Пушкина. Роптали и на то, что Бенкендорф ничего не сделал, чтобы предотвратить дуэль, хотя знал, что она надвигается.
Эти разговоры напугали шефа жандармов. Он вообразил, что кто-то готовит манифестации, враждебные не только Геккерну, но и правительству, с которым Бенкендорф себя отождествлял. Ему чудились заговоры, происки какой-то «демагогической партии», существовавшей только в воображении жандармов. Чуть ли не бунт. Жандармы, как сообщает «Отчет о действиях корпуса в 1837 г.», стали выяснять: «Относились ли эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту? В сем недоумении и имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное, как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либерализма – высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено».
Со своей стороны, министр просвещения граф С. С. Уваров дал цензуре соответственные этому жандармскому решению указания и распорядился, чтобы «в статьях была соблюдена настоящая умеренность и тон приличия».
Статей почти не было. Немногочисленные журналы и газеты не дерзали отдать должное зачинателю русской словесности, величайшему русскому поэту. О том, что он был смертельно ранен на дуэли, в печати не было сказано ни слова. Даже разговаривали об этом вполголоса, в письмах писали с оглядкой. Описывая в письме к С. Л. Пушкину все подробности последних дней поэта, Жуковский ни слова не упомянул о ране, не объяснил, от чего внезапно скончался 37-летний, полный сил и здоровья, человек.
В «Литературном Прибавлении к Русскому Инвалиду» появилась короткая заметка в черной рамке. Она начиналась словами: «Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался в цвете лет, в середине своего великого поприща».
Старший цензор, князь М. А. Дондуков-Корсаков, президент академии, высмеянный Пушкиным в эпиграммах, вызвал к себе редактора, А. А. Краевского, и сделал ему строгое внушение:
– Что это за черная рамка? Что за солнце поэзии… великое поприще… Что он был, полководец или министр? Писать стишки – какое это поприще?
Это была единственная газетная траурная рамка, но весь Петербург, знатный и незнатный, публика и народ, как тогда говорили, волновался, негодовал, горевал. Сдержанный, все смягчавший Жуковский писал Бенкендорфу:
«Весьма естественно, что после того, как распространилась в городе весть о гибели Пушкина, поднялось много разных толков; весьма естественно, что во многих энтузиазм к нему, как к любимому русскому поэту, оживился безвременной трагической смертью (в этом чувстве нет ничего враждебного, оно, напротив, благородное и делает честь нации, ибо проявляет, что она дорожит своею славою). Вероятно, во многих это чувство было соединено с негодованием против убийц Пушкина, может быть, и с выражением мнения… вероятно, что не один, а весьма многие в народе ругали иноземца, который застрелил русского, и кого же русского – Пушкина… Вероятно и то, что говорили о Пушкине с живым участием, о том, как хорошо бы изъявить ему уважение какими-нибудь видимыми знаками… Возможно, что были разговоры и о том, что надо отпречь лошадей и довезти колесницу до церкви, что хорошо бы произнести речь и поразить его убийц».