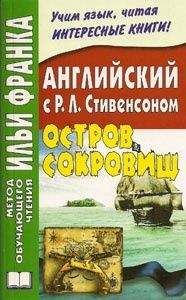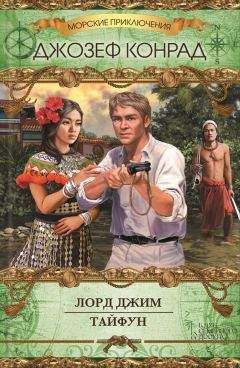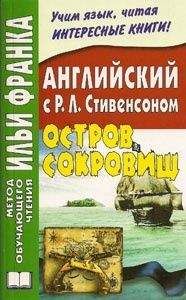Крупное тиканье степенных стенных часов с медным маятником в нашей классной постепенно приобретало томительную интонацию.
Короткие штаны жали в паху, а черные рубчатые чулки шерстили под коленками, и к этому примешивался скромный позыв, который я ленился удовлетворить. Мне было — как выражалась няня сестер, следовавшая их англичанке в технических вопросах-необходимо «набаван» (number оnе, в отличие от более основательного «набату», number two — да не посетует чопорный русский читатель на изобилие гигиенических подробностей в этой главе: без них нет детства). Нудно проходил целый час-Бэрнеса все не было. Брат уходил в комнату Mademoiselle, и она ему там читала уже знакомого мне «Генерала Дуракина». Покинув верхний,
«детский», этаж, я лениво обнимал ласковую балюстраду и в мутном трансе, полуразинув рот, соскальзывал вдоль по накалявшимся перилам лестницы на второй этаж, где находились апартаменты родителей (интересно, клюнет ли тут с гнилым мозгом фрейдист). Обычно они в это время отсутствовали — мать много выезжала, отец был в редакции или на заседании, — и в сумеречном оцепенении его кабинета молодые мои чувства подвергались — не знаю как выразиться — телеологическому, что ли, «целеобусловленному» воздействию, как будто собравшиеся в полутьме знакомые предметы сознательно и дальновидно стремились создать этот определенный образ, который у меня теперь запечатлен в мозгу; эту тихую работу вещей надо мной я часто чувствовал в минуты пустых, неопределенных досугов. Часы на столе смотрели на меня всеми своими фосфорическими глазками.
Там и сям, бликом на бронзе, бельмом на черном дереве, блеском на стекле фотографий, глянцем на полотне картин, отражался в потемках случайный луч, проникавший с улицы, где уже горели лунные глобусы газа. Тени, точно тени самой метели, ходили по потолку. Нервы заставлял «полыхнуть» сухой стук о мрамор столика — от падения лепестка пожилой хризантемы.
У будуара матери был навесный выступ, так называемый фонарь, откуда была видна Морская до самой Мариинской площади.
Прижимая губы к тонкой узорчатой занавеске, я постепенно лакомился сквозь тюль холодом стекла. Всего через одно десятилетие, в начальные дни революции, я из этого фонаря наблюдал уличную перестрелку и впервые видел убитого человека: его несли, и свешивалась нога, и с этой ноги норовил кто-то из живых стащить сапог, а его грубо отгоняли; но сейчас нечего было наблюдать, кроме приглушенной улицы, лилово-темной, несмотря на линию ярких лун, висящих над нею; вокруг ближней из них снежинки проплывали, едва вращаясь каким-то изящным, почти нарочито замедленным движением, показывая, как это делается и как это все просто. Из другого фонарного окна я заглядывался на более обильное падение освещенного снега, н тогда мой стрелянный выступ начинал подыматься, как воздушный шар.
Экипажи проезжали редко; я переходил к третьему окну в фонаре, и вот извозчичьи сани останавливались прямо подо мной, и мелькала неприличная лисья шапка Бэрнеса.
Предупреждая его набег, я спешил вернуться в классную и уже оттуда слышал, как по длинному коридору приближаются энергичные шаги испытанного скорохода. Какой бы ни был мороз на дворе, его лоб весь блестел перловым потом. Урок состоял в том, что в продолжение первой четверти он молча исправлял заданное в прошлый раз упражнение, вторую четверть посвящал диктовке, исправлял ее, а затем, лихорадочно сверив свои жилетные часы со стенными, принимался писать быстрым, округлым почерком, со страшной энергией нажимая на плюющееся перо, очередное задание.
Перед самым его уходом я выпрашивал у него любимую пытку. Держа в своем похожем на окорок кулаке мою небольшую руку, он говорил лимерик (нечто вроде пятистрочной частушки весьма строгой формы) о lady frorn Russia, которая кричала, screamed, когда ее сдавливали, cruched her, и прелесть была в том, что при повторении слова «screamed» Бэрнес все крепче и крепче сжимал мне руку, так что я никогда не выдерживал лимерика до конца.
Вот перефразировка по-русски:
Есть странная дама из Кракова: орет от пожатия всякого, орет наперед и все время орет — но орет не всегда одинаково.
6
Тихий, сутулый, бородатый, со старомодными манерами, мистер Куммингс, носивший заместо демисезонного пальто зеленовато-бурый плащ-лоден, был когда-то домашним учителем рисования моей матери и казался мне восьмидесятилетним старцем, хотя на самом деле ему не было и сорока пяти в те годы -1907-1908, — когда он приходил давать мне уроки перспективы (небрежным жестом смахивая оттертыш гуттаперчи и необычайно элегантно держа карандаш, который волшебными штрихами стягивал в одну бесконечно отдаленную точку даль дивной, но почему-то совершенно безмебельной залы). В Россию он, кажется, попал в качестве иностранного корреспондента-иллюстратора лондонского Graphic'a. Говорили, что его личная жизнь омрачена несчастьями.
Грусть и кротость скрадывали скудость его таланта. Маленькие его акварели— полевые пейзажи, вечерняя река и тому подобное, — приобретенные членами нашей семьи и домочадцами, прозябали по углам, оттесняемые все дальше и дальше, пока их совсем не скрывала холодная компания копенгагенских зверьков или новообрамленные снимки. После того что я научился тушевать бок куба и при стирании резинкой не превращать с треском бумагу в гармонику, симпатичный старец довольствовался тем, что просто писал при мне свои райские яркие виды. Впоследствии, с десяти лет и до пятнадцати, мне давали уроки другие художники: сперва порасплывчатее, «широкими мазками», воспроизводить в красках какие-то тут же кое-как им слепленные из пластилина фигурки; а затем-знаменитый Добужинский, который учил меня находить соотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный, драгоценный узор, и который не только вспоминался мне в зрелые годы с благодарностью, когда приходилось детально рисовать, окунувшись в микроскоп, какую-нибудь еще никем не виданную структуру в органах бабочки, — но внушил мне кое-какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве. С чисто же эмоциональной стороны, в смысле веселости красок, столь сродной детям, старый Куммингс пребывает у меня в красном углу памяти. Еще лучше моей матери умел он все это делать — с чудным проворством навертывал на мокрую черную кисточку несколько красок сряду, под аккомпанемент быстрого дребезжания белых эмалевых чашечек, в которых некоторые подушечки, красные, например, и желтые, были с глубокими выемками от частого пользования. Набрав разноцветного меда, кисточка переставала витать и тыкаться, и двумя-тремя сочными обмазами пропитывала бристоль ровным слоем оранжевого неба, через которое, пока оно было чуть влажно, прокладывалось длинное акулье облако фиолетовой черноты; «And that's ail, dearie, — и это все, голубок мой, никакой мудрости тут нет».