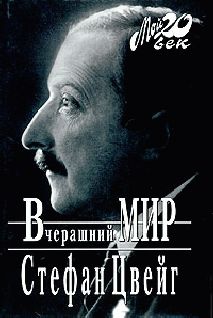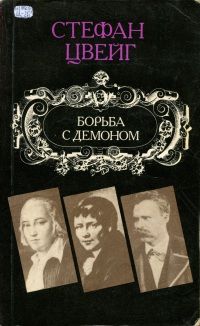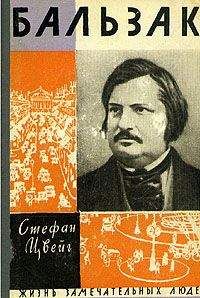А то, что мы рано начали писать или сочинять, музицировать или декламировать, было вполне естественно; любое пассивное увлечение несвойственно молодежи, потому что она не только воспринимает впечатления, но и плодотворно отзывается на них. Любить театр означает для молодых по меньшей мере мечтать о том, чтобы самим творить в театре или для театра. Восторженное восхищение талантом во всех его проявлениях неминуемо ведет к тому, чтобы заглянуть в себя самого: не отыщется ли отпечаток или задатки избранничества в еще не прояснившейся душе? Так и вышло, что в нашем классе под влиянием венской атмосферы и особенностей эпохи влечение к художественному творчеству стало прямо-таки эпидемическим. Каждый искал в себе талант и пытался развить его. Четверо или пятеро из нас хотели стать актерами. Они подражали голосам артистов Бургтеатра, без устали читали и декламировали, тайно брали уроки актерского мастерства, разыгрывали на переменах целые сцены из классиков, а товарищи составляли заинтересованную, но строгую публику. Двое или трое были великолепно подготовлены в музыкальном отношении, но еще не решили, станут ли они композиторами, исполнителями или дирижерами; им я благодарен за первое знакомство с новой музыкой, которая на программных концертах филармонического оркестра еще не звучала, – а они, в свою очередь, получали от нас тексты для своих песен и хоров. Еще один одноклассник – сын знаменитого в то время салонного художника – заполнял на уроках наши тетради портретами будущих гениев. Но гораздо сильнее было увлечение литературой. Благодаря взаимному стремлению к скорейшему совершенству и постоянной взаимной детальной критике уровень, которого мы достигли к семнадцати годам, намного превосходил дилетантский, а у некоторых действительно приближался к подлинному творчеству, что подтверждалось хотя бы тем, что наши произведения принимались не только сомнительными провинциальными изданиями, но и ведущими иллюстрированными журналами новой волны, печатались и – это убедительнейшее доказательство – даже оплачивались. Один из приятелей, которого я почитал гением, блистал на первой странице в «Пане», великолепном иллюстрированном журнале, рядом с Демелем и Рильке; другой, А. М., под псевдонимом Август Элер нашел ход в самый недоступный, самый эклектичный из всех толстых немецких журналов, в «Блеттер фюр ди кунст», куда Стефан Георге допускал лишь узкий избранный круг. Третий, вдохновленный примером Гофмансталя, писал драму о Наполеоне; четвертый развивал новую эстетическую теорию и писал многообещающие сонеты; я нашел пристанище в «Гезельшафт» – ведущем модернистском журнале, и в «Цукунфт» Максимилиана Хардена, играющем значительную роль в политической и культурной жизни Германии еженедельнике. Оглядываясь сегодня назад, со всей объективностью должен отметить, что объем наших знаний, совершенство литературной техники, художественный уровень были для семнадцатилетних поистине поразительны и возможны лишь благодаря вдохновляющему примеру фантастически ранней зрелости Гофмансталя, который побуждал нас, желавших хоть в чем-нибудь преуспеть перед другими, к крайнему напряжению всех сил. Мы владели всеми искусными приемами, самыми смелыми средствами выразительности языка, не раз и не два мы испробовали технику каждой стихотворной формы, все стили, от пиндарической выспренности до безыскусного слога народной песни; в ежедневном обмене своей продукцией мы указывали друг другу малейшие погрешности и обсуждали каждый метрический нюанс. В то время как наши бравые учителя, еще ничего не подозревая, красными чернилами вставляли в наши школьные сочинения недостающие запятые, мы критиковали друг друга с такой строгостью, знанием дела и основательностью, как ни один из официальных литературных столпов наших крупных ежедневных изданий, разбирая классические шедевры; в последние школьные годы благодаря нашей одержимости мы оставили далеко позади многоопытных и известных критиков – и в смысле профессионального кругозора, и по части литературного мастерства.
Это правдивое изображение нашей ранней литературной зрелости может создать впечатление, что мы были каким-то особенным классом вундеркиндов. Отнюдь. В десятке соседних венских школ того времени можно было наблюдать тот же феномен не меньшей одержимости и ранних дарований. Случайностью это быть не могло. Сказывалась особая счастливая атмосфера, обусловленная художественным «гумусом» города, время политического затишья – то стечение обстоятельств, когда на рубеже веков возникает новая духовная и литературная ориентация, которая органически соединилась в нас с внутренней потребностью творить, что, собственно говоря, почти обязательно на этом жизненном этапе. В пору созревания любовь к поэзии или тяга к сочинительству приходят к каждому молодому человеку, но в большинстве случаев лишь мимолетным порывом, и редко подобное влечение не проходит с юностью, ведь оно само – эманация юности. Из пяти «актеров» нашего класса никто так и не попал на сцену настоящего театра, поэты «Пана» или «Блеттер фюр ди кунст» после того первого, поразительного взлета выдохлись и превратились в ограниченных адвокатов или чиновников, которые сегодня, возможно, с грустью или иронией посмеиваются над своими давнишними притязаниями; я единственный, в ком творческая страсть не иссякла и для кого она стала смыслом и содержанием всей жизни. Но с какой благодарностью вспоминаю я еще о нашем братстве! Как много оно помогло мне! Как рано эти пылкие споры, эта борьба за первенство, это общее восхищение и критика помогли мне набить руку и обострили чувства, какую широкую перспективу духовного космоса открыли, как окрыленно возвысили нас всех над скудостью и угрюмостью нашей школы!
«Ты, благостное искусство, в минуты тяжкие…» – всегда, когда звучит бессмертная песня Шуберта, я воочию представляю нас поникшими на наших жалких партах и вижу, как мы возвращаемся домой – с сияющими глазами, читаем стихи наизусть, страстно спорим о них, забыв обо всем на свете, воистину «погруженные в лучший мир».
Подобная одержимость искусством, такая чрезмерная переоценка эстетического, разумеется, не могли не сказаться на других интересах, присущих нашему возрасту. И если сегодня я спрошу себя, когда мы, до предела загруженные школьными и частными уроками, находили время читать все эти книги, то станет ясно, что в основном это делалось за счет сна и, стало быть, в ущерб нашему физическому самочувствию. Хотя каждое утро мне надо было вставать ровно в семь, я никогда не откладывал книгу раньше часа или двух ночи – скверная привычка, которая, между прочим, с тех пор укрепилась во мне: как бы ни было поздно, я должен еще час или два перед сном почитать. Так, не могу припомнить, чтобы меня не выпроваживали в школу в последнюю минуту – всегда невыспавшегося, наскоро умытого, заглатывающего на ходу бутерброд; неудивительно, что при всей нашей интеллектуальности мы выглядели худосочными и зелеными, как неспелые фрукты, да, кроме того, неряшливо одетыми. Ведь каждый геллер наших карманных денег уходил на театр, концерты и книги, и вообще мы вовсе не стремились к тому, чтобы нравиться девушкам, – наши притязания шли гораздо дальше. Прогулка с девушкой казалась нам потерянным временем, так как мы в нашей интеллектуальной заносчивости считали противоположный пол духовно неполноценным и не желали растрачивать свое драгоценное время на глупую болтовню. Сегодняшнему молодому человеку будет нелегко понять, до какой степени мы игнорировали и даже презирали все, что связано со спортом. Разумеется, волна увлечения спортом в прошлом столетии еще не докатилась из Англии до нашего континента. Не было еще стадионов, где стотысячная толпа ревет от восторга, когда один боксер наносит другому удар в челюсть; газеты еще не посылали корреспондентов, чтобы те с Гомеровым вдохновением посвящали хоккейному матчу целые полосы. Бои на ринге, атлетические союзы, рекорды штангистов считались в наше время уделом лишь окраин, где мясники и грузчики составляли постоянную публику; один только конный спорт, как более аристократический, более благородный, привлекал несколько раз в году на бега высшее общество, но отнюдь не нас, кому всякое занятие спортом казалось пустой тратой времени. В тринадцать лет, когда я заразился этой интеллектуально-литературной инфекцией, я перестал кататься на коньках и тратил на книги все деньги, выдаваемые родителями на уроки танцев, в восемнадцать я еще не умел ни плавать, ни играть в теннис; и по сей день я не умею ездить на велосипеде, управлять машиной, а в разговоре о спорте любой десятилетний малыш способен посрамить меня. И ныне, в 1941 году, я не постигаю разницы между бейсболом и футболом, между хоккеем и водным поло, а спортивный раздел газеты с его непонятными цифрами кажется мне написанным по-китайски. По отношению ко всем рекордам скорости и выносливости я непоколебимо придерживаюсь точки зрения персидского шаха, который, когда его вздумали пригласить на дерби, сказал по-восточному мудро: «Зачем? Я же знаю, что одна лошадь способна обогнать другую. Какая – мне безразлично». Игры мы презирали не меньше, чем физическую культуру: зряшное препровождение времени; разве что шахматы удостаивались нашего внимания, потому что требовали усилий ума; и даже – что еще более дико – нас, хотя мы чувствовали себя настоящими или, во всяком случае, будущими поэтами, мало волновала природа. В свои двадцать лет я почти не знал прекрасных окрестностей Вены; лучшие и даже самые жаркие летние дни, когда город становится безлюдным, имели для нас особую привлекательность, потому что тогда мы получали в нашем кафе газеты и журналы гораздо быстрее и в большем количестве. Мне потребовались годы и десятилетия, чтобы чем-то уравновесить эту по-детски неуемную одержимость и некоторым образом компенсировать неизбежное отставание в физическом развитии. Но в целом я никогда не раскаивался в этом фанатизме, этом всепоглощающем стремлении видеть и чувствовать. Оно отравило мою кровь страстью к духовному, от которой я не хотел бы избавиться, и все, что я прочел и запомнил, основано на прочном фундаменте тех лет. То, что недобрал в мускулатуре, можно потом наверстать, но тяга к духовным высотам, восприимчивость души развиваются только в эти решающие годы становления, и лишь тот, кто рано научился раскрывать свою душу, способен позднее вобрать в нее целый мир.