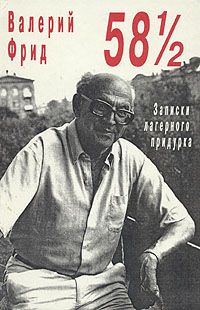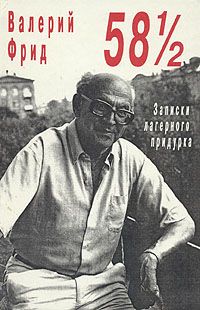А вообще камера относилась к чеху хорошо, его нелепой участи сочувствовали.
С Шуриком Гуревичем сидел другой иностранец, молодой солдат вермахта — сын немецкого коммуниста. При первой возможности он дезертировал из части и сдался партизанам. Те сообщили в Москву. Чекисты не поленились: прислали самолет и вывезли перебежчика на Большую Землю — точнее, на Большую Лубянку. От него, как и от Стеглика, требовалось одно: признаться, с каким заданием заслали его к нам фашисты. Парень долго упирался, рассказывал свою пролетарскую биографию, говорил об отце-коммунисте — и все без толку. В конце концов не выдержал, подписал все, что велели, но его политические взгляды сильно изменились. Целыми днями он шагал по камере из угла в угол и бормотал:
— Die beiden Scheissbanden konnen einander die Hande reichen — обе говенные банды могут пожать друг другу руки…
Не покривлю душой, если скажу, что таких, как этот немчик и наш чех, я жалел больше, чем своих, советских: мы сами наболтали себе пятьдесят восьмую статью, нарушили устав собственного монастыря — жесткий, несправедливый, но известный всем нам с детства устав. А эти-то попали за какие грехи?
Вскоре Стеглика от нас увели, но свято место пусто не бывает. В ту же ночь я проснулся от лязга железа: это надзиратель вносил шестую кровать.
Новый жилец стоял тут же с узелком в руке и неуверенно улыбался. Был он невысок, лысоват и лицом похож — не в обиду ему будь сказано — на еврея (оказалось — цыган).
— Здравствуйте, — сказал он мне одному: остальные спали.
— Здравствуйте. Вы москвич?
— Я ленинградец, но вы меня знаете. Я — Вадим Козин.
— А-а, — пробормотал я и заснул.
Настоящее знакомство состоялось наутро. Новый сосед явно хотел понравиться: был приветлив, предупредителен, даже предложил оттереть носовым платком стену, потемневшую от въевшейся в краску пыли.
— Тюремную стену драить?! — зарычал наш лагерник Пантюков. — Да пошли они все… — Он объяснил, куда.
Несколько смутившись, Козин переменил тему. Положил шелковый платочек на подушку, уголок подушки повязал бантиком (как только ухитрился пронести ленточку через обыски: ведь даже шнурки от ботинок отбирали!), отошел, полюбовался и, кокетливо склонив голову, сообщил:
— Вообще-то я должен был родиться женщиной…
Про свое дело он рассказывал так: обиженный на ленинградские власти, которые не помогли во время блокады его родственникам, Козин написал в своем дневнике, что знай он про такое бессердечие, остался бы в Иране. (Он ездил туда давать концерты для советских воинских частей. Иранские антрепренеры делали ему лестные предложения, но он из патриотизма отказывался). Эта запись неведомыми путями попала в руки «органов», и артиста, естественно, посадили.
Недавно в одном из интервью с ним я прочитал другую версию — об отказе петь про Сталина или что-то вроде этого. Но нам Вадим Алексеевич об этом не говорил.
Освоившись в камере, Козин стал петь для нас — вполголоса, чтоб не услышал надзиратель. Пел он удивительно приятно. Пел знаменитую «Осень», «Дружбу» и даже — по-английски — «Ю ар май лаки стар». Ну, и старинные цыганские романсы: из его рассказов выходило, что он был внуком или внучатым племянником не то Вари Паниной, не то Вяльцевой, не то их обеих.
Однажды Вадим Алексеевич пришел с очередного допроса очень расстроенный. Ходил по камере и жалобно повторял:
— Какие мерзкие бывают люди!.. Какие мерзкие!
Оказалось, у него была очная ставка с аккомпаниатором Ашкенази. Козин в лицах изобразил разговор следователя с пианистом:
Вопрос следствия:
— Свидетель Ашкенази, в каких отношениях вы были с Козиным?
Ответ:
— В очень плохих. Он отказывался вывезти мою семью на Урал, хотя, как руководитель культбригады, имел такую возможность.
— Пытались ли вы ему мстить?
— Да, пытался.
Вопрос:
— Каким образом?
Ответ:
— Аккомпанируя ему в концертах, я брал на два тона выше, и он должен был петь в несвойственной ему тесситуре…
Мы восприняли этот рассказ юмористически, но Козину было не до смеха: ведь это ему, а не нам, приходилось петь в несвойственной тесситуре. Говорят, это очень мучительно.
А в общем он был очень удобным сокамерником, и мы искренне огорчились, когда «камерные концерты», как мы их называли, подошли к концу. Следователь объявил Козину, что его дело закончено, и он поедет в дальневосточные лагеря.
Вадим Алексеевич, озабоченный предстоящей неблизкой дорогой, советовался с нами, какую из шапок надеть: одна, по-моему, была из выдры, другая бобровая. Но тот же Пантюков объяснил со свойственной ему грубой прямотой, что можно не тревожиться: какую ни наденет, все равно блатные отнимут…
Судьба козинской шапки мне не известна. А о самом Вадиме Алексеевиче лет через пять, уже в Каргопольлаге, мне рассказал один зек, приехавший к нам из Магадана, что тамошнее начальство встретило Козина хорошо. Он был расконвоирован и с большим успехом выступал в местном лагерном театре, пока не случился такой казус: во время концерта какой-то офицер, пьяный, надо полагать, — восторженно заорал:
— Да здравствует товарищ Козин!
Это не понравилось генералу, начальнику лагеря. Козина законвоировали и отправили на общие работы.
За правдивость этой истории не ручаюсь, свидетелем не был, за что купил — за то и продаю[14]
С кем-то из моих однодельцев сидел человек со странной фамилией Дебюк-Дюбек, козинский администратор, кажется. По его сведениям, у Вадима Алексеевича, кроме 58-й, была и другая статья, а именно 156-я — «мужеложство» (словечко-то какое!). Но сам Козин об этом умолчал, и понятно: шел сорок четвертый год, а не девяносто первый, когда в Москву бесстрашно слетаются на свой конгресс «голубые» и «розовые» всех стран.
А между тем, я ведь помню: в первом издании Большой Советской Энциклопедии — той, темно-зеленой с красными корешками — я еще мальчишкой читал, что советское законодательство не признает наказания за гомосексуализм, потому что нелепо наказывать за болезнь — за точность цитаты не ручаюсь, но смысл был такой.
Не признавали, а в начале 30-х ввели-таки в УК статью 156-ю. Впрочем, и до появления специальной статьи «мужеложников» сажали — давая 58-ю, самую растяжимую. В лагерях это называлось 58, пункт «ж». Был бы человек, а статья найдется…
Ни с кем из знаменитостей, кроме Козина, я на Лубянке не встречался. Правда, майор Райцес спросил меня как-то:
— Вы в какой камере сидите?
Тогда я еще проживал в одиночке, в 119-й.
— А знаете, кто в 118-й?.. Нет? Антонеску. А в сто двадцатой?.. Пу-и.