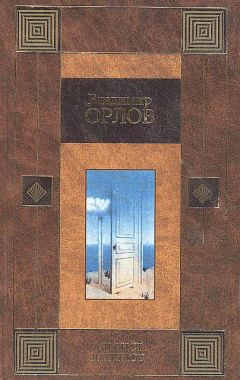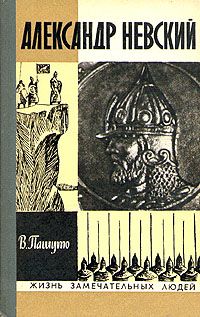Возьмем теперь Тацита. Фюрно уже много лет назад указывал[25*], что когда Тацит описывает моменты ломки характера человека, подобного Тиберию, под бременем императорской власти, он представляет этот процесс не как изменение структуры, но как проявление тех ее черт, которые до сих пор лицемерно скрывались. Почему же Тацит так искажает факты? Делает ли он это просто из озлобленности, для того чтобы очернить личности людей, которым он отвел роли злодеев? Преследует ли он здесь риторические цели, давая читателю ужасные примеры, иллюстрирующие его этические взгляды, украшающие его повествование? Совсем нет. Все это происходит потому, что идея развития характера человека, идея, столь привычная для нас, для него метафизически невозможна. «Характер» — это субъект действия, но не само действие. Действия приходят и уходят, но «характеры» (как мы называем их), т. е. деятели, порождающие эти действия, оказываются субстанциями, чем-то вечным и неизменным. Те черты характеров какого-нибудь Тиберия или Нерона, которые проявились сравнительно поздно в их жизни, должны были присутствовать у них всегда. Хороший человек не может стать плохим. Человек, оказавшийся плохим в зрелом возрасте, должен был быть таким же плохим и в юности, лицемерие скрывало его пороки: αρχη ανδρα δειξει[26], как говорили греки[27*]. Власть не меняет характера человека, она только показывает, чем он уже был.
Греко-римская историография поэтому никак не могла описать возникновение чего бы то ни было. Все деятели, появлявшиеся на исторической сцене, считались уже сформировавшимися до начала истории, а их отношение к историческим событиям было точно таким же, как отношение машины к ее собственным движениям. Область истории ограничивалась описанием того, как действуют люди и объекты, природа же этих людей и объектов оставалась вне поля видения историка. Немезидою этого субстанционалистского подхода был исторический скептицизм: события, эти преходящие акциденты, считались непознаваемыми, а субъект действия, рассматриваемый в качестве субстанции хотя и был познаваемым, но не для историка. Но чему же служила тогда история? Для платонизма история обладала некоей прагматической ценностью, и такое понимание единственной ценности истории усиливается от Исократа до Тацита. И по мере того, как эта точка зрения укреплялась, она вела к своего рода пораженчеству в отношении точности исторического описания, к недобросовестности исторического сознания как такового.
Часть II. ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА
§ 1. Воздействие христианских идей
Европейская историография в своем развитии прошла через три кульминационные точки. Первая относится к пятому столетию до новой эры, когда возникла идея истории как науки, как формы исследования, ιστορια. Вторая приходится на четвертый — пятый века нашей эры, когда эта идея истории получила новую форму под революционизирующим воздействием христианской мысли. Мне следует теперь описать этот процесс и показать, как христианство отбросило два ведущих принципа греко-римской историографии, а именно: 1) оптимистическое представление о человеческой природе и 2) идею субстанциальной метафизики о вечных сущностях, лежащих в основе процесса исторического изменения.
1. Одним из наиболее важных элементов сферы морального опыта, получившим свое выражение в христианстве, было чувство слепоты человеческих деяний. Речь идет не о случайной слепоте, связанной с недостатками индивидуальной проницательности человека, а о слепоте органической, заложенной в природе самого действия. Согласно христианской доктрине, то, что человек вынужден действовать вслепую, не зная будущих результатов своих действий, — неизбежно. Эта неспособность достичь заранее поставленных целей, которую греки называли αμαρτια (промахом), перестала рассматриваться как случайный элемент в природе человека. Она стала считаться ее необходимым элементом, вытекающим из условий существования человека как такового. Это — его первородный грех, который так настойчиво подчеркивал св. Августин{1}, связывая его в психологическом плане с силой плотского желания. Человеческое действие, в соответствии с этой точкой зрения, не планируется для достижения целей, заранее поставленных интеллектом. Оно вызывается к жизни а tergo[28], непосредственным и слепым желанием. И не только необразованный простолюдин, но и человек вообще делает то, что ему хочется, а не обдумывает разумный план своих действий. Желание — это не укрощенный конь платоновской метафоры, а бешено мчащаяся лошадь, закусившая удила. «Грех» же (используя технический теологический термин), к которому оно несет нас и совершить который мы стремимся, — это не грех, свободно выбранный нами, это — врожденный, первородный грех, присущий нашей природе. Из этого следует, что своими благими делами человек обязан не собственной воле и интеллекту, но чему-то, отличному от него самого, чему-то, что заставило его желать добиваться целей, достойных того, чтобы к ним стремиться. Поэтому, с точки зрения историка, принадлежащего к этой школе, хотя человек и ведет себя так, как если бы он был мудрым архитектором своей судьбы, мудрость, обнаруживаемая в его действиях, принадлежит не ему, а богу, милостью которого желания человека направляются к достойным целям. Отсюда — планы, реализуемые в человеческих действиях (я имею в виду такие планы, как завоевание мира Римом), возникают не потому, что люди задумывают их, устанавливают их ценность и находят средства их осуществления, но потому, что люди, поступая в каждый данный момент в соответствии со своими желаниями, фактически осуществляют предначертания бога. Это понимание благодати согласуется с теорией первородного греха.
2. Метафизической доктрине субстанции в греко-римской философии был брошен вызов христианской доктриной творения. Согласно последней, ничто не вечно, кроме бога, а все остальное было сотворено им. Человеческая душа перестала рассматриваться как нечто, существовавшее в прошлом ab aeterno[29], ее бессмертие в этом смысле отрицалось. Считалось, что каждая душа — новое творение. Аналогичным образом народы и нации, эти коллективы людей, — не вечные субстанции, но были созданы богом. А то, что бог создал, он может и видоизменить, переориентировав его природу для достижения новых целей. Так, проявив свое милосердие, он может изменить характер созданного им человека или народа. Даже так называемые субстанции, еще допускавшиеся ранней христианской мыслью, не были субстанциями в подлинном смысле слова, как их понимали античные мыслители. Человеческая душа все еще называлась субстанцией, но понималась теперь как творение бога, зависящее от него на протяжении своего существования. И природный мир все еще именовался субстанцией, но с теми же самыми ограничениями. Сам бог тоже рассматривался как субстанция, но его субстанциальная природа теперь считалась непознаваемой: непознаваемой не только для разума человека, опирающегося на свои собственные силы, она не могла быть раскрыта и с помощью откровения. Единственное, что мы можем знать о боге, — это его действия. Но постепенно, под воздействием христианства исчезли даже и эти квазисубстанции. В тринадцатом столетии св. Фома Аквинский отверг концепцию божественной субстанции и определил бога как чистую деятельность, actus purus[30]. В восемнадцатом столетии Беркли отбросил концепцию материальной субстанции, а Юм — духовной. Тем самым были созданы все условия для третьего переломного момента в истории европейской историографии, когда появилась, наконец, давно ожидаемая история как наука.